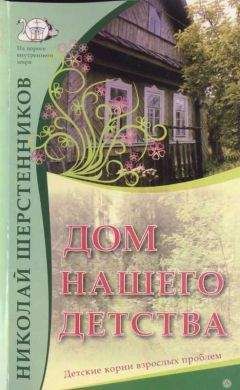Мирон Петровский - Книги нашего детства
Задолго до Гейне эта же мысль ошеломила другого немецкого поэта — Генриха фон Клейста. Клейст облек свое потрясение — и свое понимание Кантовой мысли — в метафору, которая нам, читателям «Мудреца из страны Оз», может показаться невероятной, настолько она похожа на ситуации сказки. Да что там «похожа», — она предугадывает сказку текстуально — за сто лет до ее появления. Клейст писал своей невесте Вильгельмине фон Ценге: «Если бы все люди вместо глаз имели зеленые стекла (! — М. П.), то им казалось бы, что все предметы окрашены в зеленый цвет (! — М. П.), и никогда они не могли бы решить, являются ли предметы их глазу такими, каковы они на самом деле, или мы прибавляем к ним нечто такое, что принадлежит не предметам, а глазу. То же относится и к разуму. Мы никогда не сможем сказать наверное, является ли то, что мы называем истиной, действительно истиной, или оно только кажется нам таковой…»[330]
Вчуже может показаться, будто Баум попросту развил с помощью сказочных «лиц и положений» метафору поэта-романтика. Но это — тоже своего рода иллюзия, и нет никакой необходимости доискиваться, знал ли Баум метафору Клейста или не знал. Дело в другом: Бауму не нужно было ее знать, чтобы развить в своей сказке подобную. Цветные стекла, искажающие облик мира, у Баума и Клейста связаны не друг с другом, а с общим источником — с Кантовой «априорностью», непрерывно порождавшей такие метафоры. Много спустя, в первой половине XX века, Бертран Рассел писал по тому же поводу: «Пространство и время (у Канта. — М. П.) субъективны, они являются частью нашего аппарата восприятия… Если вы всегда носили голубые очки, вы могли быть уверены в том, что увидите все голубым…»[331] И тут же Рассел сообщает в скобках: «это пример не Канта»[332]. Это действительно пример не Канта — и, добавим, не Клейста и не Баума — это пример Рассела. Это пример, который неизменно приходит на ум каждому, кто ищет образ для истолкования Кантовых понятий. Независимо ни от кого, кроме Канта, Баум создал этот образ для своего гносеологического повествования — сказки о путях познания.
Образ напрашивался: светозащитные очки, притом чаще всего зеленые, были обиходной вещью девятнадцатого века. Студент или юный мечтатель в зеленых (порой — в синих) очках — завсегдатай романтической новеллы. Оптический эффект очков упорно наводил на размышления о видимом и невидимом, о реальном и нереальном (или даже сверхреальном), о правильном восприятии мира, о познавательных возможностях человека. Великий Гёте посвятил очкам стихотворение, осуждая неприличное превосходство, которое, как он полагал, получает человек в очках над своим собеседником без очков. Словно бы возражая веймарскому старцу, Эдгар По написал новеллу о том, как некий близорукий юноша, пренебрегая очками, чуть было не женился сослепу на собственной прабабушке. Иногда на носу героя романтической новеллы появлялись волшебные очки, дающие возможность этому избраннику созерцать подлинный для романтика мир «духовных сущностей» — в противовес «бытовым мнимостям», которые, увы, только и видны невооруженному глазу.
Мысль Баума подключена к этой романтической традиции, но у него все по-другому: нормальный, «невооруженный» глаз видит мир правильно, цветные очки искажают реальность, создают иллюзорное представление о ней, обманывают человека. Мысль Баума — антиромантическая и антикантовская. Подтрунивая, сказочник оспаривает теорию познания Канта, но принимает этический пафос немецкого философа. Он и здесь мог бы опереться на Эмерсона, писавшего: «Время и пространство — только физиологические оболочки, создаваемые глазом, но душа — это свет…»[333] Не забудем, что кантианство было общей этической платформой протестантства и трансцендентализма.
Американцы, современники Баума, помнили случай, когда романтическая метафора волшебных очков, будто бы дарующих «сверхвидение», была реализована всерьез и буквально — и, конечно, оказалась дерзким обманом (или, быть может, кликушеским самообманом). Некто Джозеф Смит, колдун-любитель, объявил себя пророком новоявленной «истинной» религии: ему, дескать, было откровение свыше о местонахождении священной книги. Преодолев многие трудности, Смит явил миру эту книгу. По его словам, она представляла собой золотые пластины, исчерченные знаками на неведомом языке. При этих пластинах будто бы находился оптический прибор, с помощью которого Смит мог читать загадочный текст и переводить его на английский язык. Этот «оптический прибор» — полная аналогия романтических очков. Пророк диктовал перевод, сидя за занавеской. Изданный в 1830 году, его труд оказался пересказом фантастического романа, случайно прочитанного Смитом в рукописи, и стал — наряду с Библией — священной книгой секты мормонов.
Не отразилась ли история с «оптическим прибором» Смита в сказочном сюжете об очках Оза? По верховной воле Оза жители Изумрудного города обязаны видеть «город и мир» окрашенными в один цвет. Не напоминает ли это мормонскую общину, основанную на полном отказе ее членов от личного мнения (другими словами — от «доверия к себе»), на безусловном подчинении «священному начальству», на деспотической воле провидца? А сам Смит, вещающий из-за занавески от имени «высших сил», не напоминает ли Оза, который — тоже из-за занавески — «озвучивает» усаженные на трон муляжи? Оба самозванствуют, и Смит мог бы в свое оправдание сказать то, что говорит Оз: роль была-де принята им ради благой цели — чтобы не огорчать горожан, желавших видеть в нем волшебника…
Сказка делает изгиб и начинает обсуждать отношения между познанием и властью: на трон шарлатана Оза усаживается по-настоящему мудрый Страшила, и горожане в восторге от нового правителя — разве еще где-нибудь в мире есть город, которым правило бы соломенное чучело! Впрочем, не без ехидства замечает по этому поводу сказочник, их представления о мире были, конечно, крайне ограничены.
Сказка строится с таким расчетом, чтобы изгибы сюжета соприкоснулись с проблемами познания или пересеклись с ними в возможно большем числе точек. При этом за основу берется Кантова теория познания или какой-то ее позднейший американский вариант. Трудно допустить, что реплика Оза, оправдывающего свою ложь заботой о благе подданных, была сочинена человеком, который не знал статью Канта «О мнимом праве лгать из человеколюбия»: выкручиваясь, обманщик воспроизводит почти буквально доводы воображаемого оппонента Канта из этой статьи, написанной в защиту категорической и безоговорочной правдивости.
Ироническая критика Кантовой теории познания стремится напомнить, что, кроме различных точек зрения на мир, существует еще и мир как таковой, а кроме разных мнений человека о себе, существует он сам — думающий, чувствующий, борющийся. Фантастика и реальность поставлены здесь в такие отношения друг к другу, что невероятные сказочные образы и происшествия вынуждены подтвердить фундаментальные законы действительности: физические, психологические, нравственные.
Пройдя сказочный путь самопознания, Страшила, Дровосек и Лев обретают веру в себя, как бы «возвращаются к себе»; к себе домой, к изнуренным заботами дядюшке и тетушке возвращается и девочка Дороти. Она безмерно рада возвращению в родной домик посреди серой, скудной канзасской степи, и убогий трудовой быт, кольцом замыкая сказку, еще раз напоминает читателю о необходимости познания.
IVТакое случается не часто: сорокапятилетний математик, доцент Московского института цветных металлов и золота, занимаясь английским языком, прочел в оригинале книгу американского писателя и, переделав ее по-своему, вдруг стал автором одной из самых любимых сказок русских детей.
Рассказанная подобным образом, история «Волшебника Изумрудного города» выглядит весьма забавно, но не соответствует действительности. На самом деле никакого «вдруг» не было — была долгая и напряженная литературная работа, частью подспудная и никому не видная, частью — открытая, с выходами в печать и на сцену. Был долгий перерыв, который нужно осмыслить как внутреннее созревание писателя. Была неуемная жажда знаний, каждодневное труженичество, годы учения. Было то, о чем рассказал биограф писателя С. Черных: сорокалетний педагог-гуманитарий, преподаватель истории, литературы и географии А. Волков подал документы на математический факультет Московского университета, вызвав там переполох — зачем это нужно взрослому человеку, имеющему специальность, положение, стаж? Странного абитуриента все же приняли, и он — к удивлению и восторгу своих наставников — прошел пятилетний курс факультета за семь месяцев!
Завершив работу над «Волшебником Изумрудного города», Волков писал о себе: «Педагогической деятельностью занимался много лет. Работал в низшей школе, а теперь в высшей. Детей, их интересы знаю „до дыхания“. К литературе всегда имел склонность. Двенадцати лет начал писать роман с потрясающе оригинальной фабулой: герой по имени Жерар Никильби (!) после кораблекрушения попадает на необитаемый остров… Живя в Сибири (я сын крестьянина, родом с Алтая), писал детские пьесы, которые с успехом ставились в школах»[334].