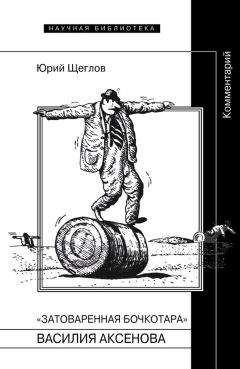Игорь Смирнов - Философский комментарий. Статьи, рецензии, публицистика 1997 - 2015
Научные работы Омри я начал читать еще в России, до переезда в Германию. Прежде чем кое-что (с незаслуженной беглостью) заметить о них, мне нужно определиться с национальностью Омри. Сделать это крайне сложно. Еврейское, венгерское, русское, англо-саксонское; унаследованное по крови, приобретенное из языковой среды — в этом, как теперь говорят, миксе мне не удается выделить преобладающее начало. То, что я скажу, будет наверняка субъективно. Но тут Омри сам виноват, мешая идентифицировать себя. Итак, я поместил бы Омри в традицию знаменитых венгров ХХ века, блуждавших по миру, но, несмотря на весь свой космополитизм, ставших неотъемлемыми от русской культуры. Сюда относится, например, Бела Балаш, влиятельный кинотеоретик и участник работы над многими фильмами, перебравшийся в 1930-е годы из Германии в Москву. К этому ряду принадлежит и Дьердь (Георг) Лукач, проделавший тот же путь, что Балаш, — исследователь мирового романа и, быть может, самый оригинальный и самый смелый философ-марксист прошлого столетия. Омри продолжил эту традицию, однако придал радикализму, которым отличаются теоретические построения и Балаша и Лукача, совсем новый смысл. Радикально здесь не старание довести идею до крайности, до последней мыслительной черты (немой фильм открыл, по Балашу, человека в его первозданности — до того, как тот обрел Логос; настоящее — кульминация всей истории, полагал Лукач, изображая современность полем последней схватки между трудом и капиталом), но жертвенное самозабвение исследователя, отказывающегося от себя ради того, чтобы дать полный голос материалу. При такой установке важно не столько перещеголять конкурента в возведении идейных конструкций — одна другой головокружительней, сколько, напротив, уйти в тень изучаемого объекта. Этим объектом явилась для Омри литература, по преимуществу русская. И в ранних статьях о Мандельштаме, и в монографии о нем литературовед предоставил поэту возможность заговорить с нами совместно с тем великим множеством художественных текстов, на которые тот исподволь откликнулся в своем творчестве. Чтобы выявить эти “подтексты”, нужно было обладать феноменальной памятью. Уроки, которые Омри получил в Гарвардском семинаре Кирилла Федоровича Тарановского, были усвоены учеником, наделенным от природы какой-то невероятной способностью удерживать в сознании все прочитанное и увиденное в детальной точности. Такую память на поэтические тексты, которая дарована Омри, я встречал в жизни только один еще раз — у Иосифа Бродского. Сопоставления текстов, предпринимаемые Омри, неотразимы, в них не приходится ни на мгновенье сомневаться, и трудно понять, где тут кончаются знания филолога и начинается строгая самодисциплинированность естествоиспытателя, противного фантазиям. Пустые понятия, которыми кишат гуманитарные науки, не могут не вызвать у Омри возмущения: об одном из них — его демифологизирующее исследование по исторической семантике, названное в русском издании “Серебряный век как умысел и вымысел”. То же бережное обхождение с материалом, но не с текстовым, а с жизненным, — в документальной прозе Омри “Из города Энн”. Это внимание к мельчайшим подробностям как текстов, так и фактических обстоятельств — род высокой вежливости некоего транссоциального порядка; уважительное отношение к самому миру и к разыгрывающейся в нем человеческой истории; поклон, приветствующий встречу с бытием. Как бы мне хотелось иметь Вашу память, Омри!
В зависти нет ничего хорошего, пока в ней открыто не признаются тому, кому завидуют. И тогда она получает новое обозначение (вроде имени “Омри”) и называется восхищением. Я восхищаюсь моим героем. В последний раз я видел его из окна такси идущим по Невскому: невысокий, с почти офицерской выправкой, крупной, не клонящейся головой, модно одетый человек средних лет. Средних, Омри! Какие там семьдесят…
"Птичка прыгает по ветке", или О человеке, которого не удастся поздравить с 70-летием
Опубликовано в журнале: Звезда 2007, 9
Вот загвоздка: ведь я не смогу написать текст, за который взялся. Первый раз в жизни начинаю сочинение, заранее зная, что потерплю неудачу. И даже обращение к высшим силам, которые направляли руку и мысль средневековых агиографов, ничего мне не даст. Вижу, как наяву, потусторонние лица — шестидесятнические, бородатые, приветливые, но непреклонные: “Нет, — говорят, — споспешествовать не будем, ваш герой от нас отступился, не ждите благословения”. Отвечаю: “Смиренно принимаю ваше решение”, — а себе на уме соображаю: “Есть такая риторическая фигура — paradoxon. Не прибегнуть ли к ней?” Она сродни той, что в поэтике выразительности называется “отказным движением”. Ничего не слыхали о поэтике выразительности? Зря! Универсально приложима к любому высказыванию, хоть к художественному, хоть к практическому. Я был когда-то ее поклонником. Да и сейчас, как видите, припоминаю кое-что из этого учения. ПВ ОТК (да простят мне нынешние постинтеллектуалы жаргон сорокалетней давности) состоит в следующем: допустим, вы хотите купить квартиру, приходите в банк за кредитом и заявляете служащему, что в долгу оставаться не любите, что и жилье вам не очень нужно, а тот принимается вас уговаривать взять ссуду, снижая, естественно, проценты. ПВ ОТК можно применять во многих жизненных ситуациях, не исключая и сексуальных, но тогда с осторожностью. Непредсказуемо, к чему там эта техника приводит. Говорите желанному партнеру, что он (она) вас вовсе не интересует, а в ответ — по морде. Но в моем случае ПВ ОТК наверняка сработает, если я объяснюсь, почему, собственно, мой текст ожидает неминуемое крушение, и таким образом извлеку кое-какую выгоду из творческого поражения.
Потому, во-первых, что тот, кому он посвящен, сам себя уже дотошно описал, так что неясно, что к этому можно прибавить. И в новеллах о профессоре Зете, загадочно смешавших стиль Борхеса с лефовской фактографией, и в многочисленных “виньетках”, в которых их автор прослеживает свою жизненную стезю и портретирует людей, встреченных на ней. Путь был таков: из безмятежно-структуралистской Москвы в логово постструктурализма, в Корнельский университет, и далее — в Южную Калифорнию. В Москве будущий профессор Зет издавал вместе с Юрием Константиновичем Щегловым брошюрки по упомянутой поэтике выразительности. Они выходили в свет под грифом “Предварительные публикации Института русского языка АН СССР”, и их тираж не превышал того, которого удавалось добиться подпольщикам, размножавшим на гектографе революционные воззвания. Придется сказать пару слов о том, в чем заключалась революция на филологический лад (несколько напоминавшая своим генеративным эрототехницизмом Камасутру, которую мы все в ту пору штудировали на коктебельских пляжах). Представьте себе, что вам захотелось написать стихотворение. О чем? — думаете вы. Конечно, о чем-нибудь неземном. Так у вас в сознании возникает то, что в поэтике выразительности именуется “темой текста”. Затем вам нужно совершить следующий шаг — сделать замысел наглядным. Чтобы достигнуть убедительности, вы воплощаете идею неземного в образе птички. То есть используете прием выразительности “конкретизация”. Но этого мало, чтобы породить так называемый “связный текст”. Вы мучительно соображаете, в какой бы ситуации изобразить птичку. Тогда вы обращаетесь к ПВ “совмещение” и объединяете пернатую гостью вашей разгулявшейся фантазии с деревом, которое также “конкретизируете”. Получаются неотразимые стихи: “Птичка прыгает по ветке”. В репрезентанты надмирности можно выбрать и ангела. Но его на дерево сажать как-то неловко. Нужно быть верным действительности. Если вы будете и далее работать с приемами выразительности (их не очень много, они легко запоминаются; по мне судя, навсегда), то карьера большого поэта вам обеспечена. Коротко говоря, революция в гуманитарных науках, как и любая социально-политическая, была уравнительной, продвигая творчество в массы и воспитывая из их представителей митинговых ораторов, не лезущих в карман за словом, то бишь за ПВ.
Скажете: поп-арт в науке, упрощение высокого искусства, холизм-иху-муть-редукционизм. Ах, если бы вы знали, сколько молодой головоломной изобретательности пошло на построение модели “смысл текст”! Сколько неподкупной мыслительной энергии было вложено в это дело! Я читал брошюрки как откровение — положим, впрочем, не об изящной словесности, а об их авторах, заявивших свое право быть творческими личностями в таком времени (брежневском), в котором креативность вовсе не была затребована, и в такой области (литературной), где она заведомо принадлежала не им — другим, писателям. После переезда в Америку была издана монография “Themes and Texts. Towards a Poetics of Expressivenes” (Ithaca and London, 1984). Рецензии на нее в западной, до того не знакомой с московским напором научной прессе были недоуменными и сводились к тому, что в книге не упоминается Деррида. Замечательный стиховед Кирилл Федорович Тарановский, эмигрировавший, как и мой герой, в Америку, сказал мне однажды, что не рассылает свои работы по тамошним журналам, потому что они отдаются на отзыв особенно бездарным аспирантам, которые, не умея сказать свое, делают себе имя на ругани в адрес знаменитостей. Рецензентам “Тем и текстов” не пришло в голову, что и философия Деррида — в качестве всего лишь серии высказываний — непринужденно укладывается в ПВ (по схеме известной детской игры “Да и нет не говорите”, то есть в качестве злоупотребления пэвухами “совмещение” и “сокращение”). Как бы то ни было, профессору Зету пришлось перестраиваться. С шестидесятнической верой в науку было покончено. В поэтике выразительности было, как мне кажется, еще много неиспользованного теоретического потенциала. Но “освобождение от железных объятий структурализма” (“Литературное обозрение”, 1997, № 1, с. 16–22) стало таким же творческим актом, как и наложение строгой ментальной аскезы — жизнестроительной по сущности, пусть и ограничивающей принимающих ее. Что происходит с талантливым русским человеком на Западе? Он думает, что избавился от авторитарного мышления — крушит когда-то не признанных кумиров: издевается над Ахматовой, деконструирует обожаемого им Эйзенштейна, открывает приспособленчество у Зощенко, и единственное, от чего он не может эмансипироваться, сбежать, — это он сам. И слава богу! Пусть и дальше пишет о себе в “Виньетках”. Человек, выступающий из них, мне чрезвычайно интересен. Почему? Потому что никогда не принадлежал мейнстриму, противостоял ему. Был автономной, самодостаточной единицей. Носителем информации, которой селевой поток, стекающий с вершин (власти, понятно), не обладает.