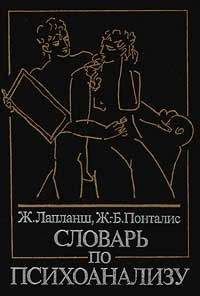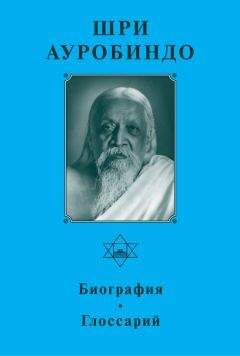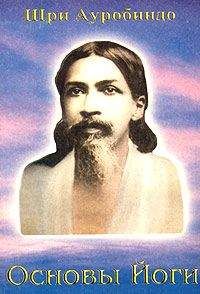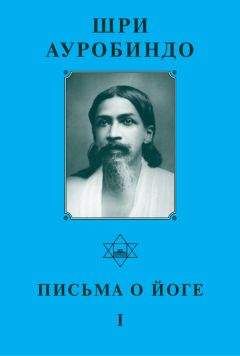Шри Ауробиндо - Шри Ауробиндо. Основы индийской культуры
Чтобы оценить эту духовно-эстетическую суть индийской архитектуры, лучше всего начать с ее произведения, восприятие которого не осложняется его окружением, зачастую больше не гармонирующим со зданием, с сооружения, находящегося за пределами даже и тех городов, что и поныне сохраняют зависимость от сакральных мотивов, – где-нибудь на фоне свободной Природы. Передо мной две гравюры сооружений, которые отвечают этому описанию: храма в Калахасти и храма в Синхачаламе, двух сооружений, совершенно разных по стилю, но единых по сути и универсальной мотивации. Здесь нет нужды выделять храм из окружения, напротив, следует рассматривать его в единстве с небом и равнинным ландшафтом или с небом и горами, чувствуя общее для здания и окружения, реальность Природы и реальность, выраженную в произведении искусства. Единение, к которому стремится Природа в своем бессознательном самосотворении и в котором она живет, единение, которого достигает душа человека в сознательном духовном созидании (здесь труд духовного созидания воплощен в камне), в котором потом пребывает он сам и его произведение, – являют собой одно и то же состояние и один и тот же мотив души. С данной точки зрения, это творение рук человеческих кажется восставшим и отделившимся от сил естественного мира, но оно есть и выражение единого для человека и мира бесконечного духа – неосознанной тяги вверх и на ее фоне особенно заметного сознательного усилия и успеха в обретении. Одно из этих сооружений отважно взбирается вверх, могуче замирает на склоне в едином порыве трудного, но неудержимого восхождения, незыблемое в этой взятой с боем высоте; другое в изяществе и эмоциональности округлой массивности возносится ввысь над мощью своего основания, касаясь небес закругленной вершиной и венчающим ее символом. Оба сооружения уменьшаются от основания к вершине, непрестанно, мягко, но отчетливо – на каждой стадии повторяется одна и та же форма, та же настойчивая множественность, та же тесная заполненность, то же обилие резных деталей, но одно до конца удерживается множественностью усилий, а другое завершается одним-единственным символом. Чтобы раскрыть смысл, нам надо сначала ощутить единство бесконечности, в котором живут эта природа и это искусство, потом увидеть переполненность деталями как знак бесконечной множественности в единстве, увидеть в последовательном уменьшении здания от фундамента к верхней точке все более и более тонкий возврат от основы на земле к первоначальному единству и уловить символическое завершение движения на вершине. Не отсутствие единства раскрывается перед нами, но безмерное единство. Перенесите это истолкование на условия нашего собственного духовного самосуществования и космического бытия – и мы поймем, что те великие зодчие увидели в себе и перенесли в камень. Как только мы приходим к пониманию этого тождества в духовном опыте, все возражения отпадают сами по себе, обнаруживая свою суть – злость бессильного непонимания, недостаточной проницательности и полного неумения видеть. Оценивать детали индийской архитектуры легко, когда оценено целое, но без оценки целого это попросту невозможно.
Как бы отличны ни были дравидийские сооружения по конструкции и стилю, к ним применим тот же метод интерпретации – речь не только о могучих храмах вселенской славы, но и о безвестных придорожных молельнях в маленьких городишках, которые являются упрощенным исполнением той же самой темы. Архитектурный язык севера отличается от южного, здесь иной основополагающий стиль, но и к нему надо подходить с тем же духовным, медитативным, интуитивным методом, и мы получим тот же результат – эстетическую интерпретацию все того же духовного опыта, единого во всей своей сложности и множественности, который составляет основу бесконечных вариаций индийской духовности и религиозного чувства, осознанного союза человеческой души с Божественным. И оно же объединяет все творения этого иератического искусства. Различные стили и мотивы – это различные пути приближения к единству и его выражения. Возражение, что якобы избыточность деталей и орнамента скрывает единство, мешает его восприятию и разбивает его, возникает только потому, что глаз по ошибке сначала останавливается на детали, не соотнеся ее с этим изначальным духовным единством, которое прежде всего должно быть зафиксировано в духовном видении и союзе, а все прочее должно быть увидено потом, в общем видении и переживании. Когда мы смотрим на множественность мира, то обнаруживаем в нем только плюралистическую наполненность; к единству же мы приходим через редукцию, через исключение части увиденного, через тщательный отбор немногих указаний – или же нам приходится удовлетворяться единством тех или иных отдельных идей, переживаний, образов; познав же Сущность в ее бесконечном единстве и потом обращаясь к множественности мира, мы обнаруживаем, что единство способно объять любое множество вариаций, сколько бы мы их ни пожелали сотворить, и остаться собой при бесконечном самоумножении творений, его составляющих. Богатство орнаментов и деталей в индийских храмах представляет бесконечное разнообразие и повторяемость миров – не только нашего мира, но и всех планов, – говоря о бесконечном многообразии в бесконечности единства. От нашего собственного опыта и полноты видения зависит, сколько мы оставим за пределами, а сколько сумеем объять, много выразим или мало, или постараемся на дравидийский лад произвести впечатление неисчерпаемости форм. Объемы единства и его основание достаточны для любой надстройки или множественности содержания.
Осуждать эту избыточность как варварство значит судить ее исходя из чуждого критерия. Где, в конце концов, должны мы провести линию? Строгому классическому вкусу по той же причине творчество Шекспира некогда представлялось великим, но варварским; можно припомнить галльское описание: пьяный варварский гений, чьи произведения лишены художественного единства, испорчены тропическим буйством персонажей и событий; Шекспира корили за необузданность воображения, лишенного симметричности, пропорциональности и прочих характеристик ясности, легкости, изящества, столь дорогих сердцу классициста. Классицист мог бы говорить о произведениях Шекспира языком мистера Арчера, называя их трудами титанического гения, массой мощи, где, однако и следа нет единства, ясности, классического благородства, скорей в них обнаруживается полное отсутствие ясного изящества, легкости и сдержанности, это – изобилие дикой орнаментальности, бунт воображения без меры и порядка, напряженные фигуры, скрюченные позы и нелепые жесты – где же достоинство, грация, исполненная разумной естественности красота классического движения и позы? Но даже ум, вскормленный строжайшей латынью, сейчас превозмог былое неприятие «великолепного варварства» Шекспира и понял, что получил более полное, не столь ограниченное и скудное, как прежде, видение жизни, более великое интуитивное единство, чем формализованные единства классической эстетики. Однако индийское видение мира и бытия шире и полнее шекспировского, поскольку охватывает не только жизнь, но все сущее, не только мир людей, но все миры и всю Природу и космос. Исключая отдельные личности, европейский ум еще не подошел к непосредственному и настоятельному выявлению единства бесконечной Сущности или космического сознания, населенного бесконечным многообразием, еще не испытал потребности выразить это единство, он не может принять или понять его выражение в восточном искусстве, речи и стиле, противится этому так же, как классический ум некогда противился Шекспиру. Возможно, недалек тот день, когда Европа увидит, поймет и даже сама попытается выразить те же вещи на другом языке.
Сюда же надо отнести и неудовольствие обилием деталей, мешающих равновесию, не оставляющих простора для глаза; оно произросло из того же корня, продиктовано другим опытом и не имеет смысла при оценке опыта индийского. Ибо единство, на котором все зиждется, несет в себе беспредельное пространство и равновесие духовной реализации, поэтому нет нужды здесь в иных незаполненных пространствах или условиях для равновесия менее значительного и поверхностного. Здесь глаз всего лишь путь для доступа к душе, к которой все и обращено, а если душа, живущая в этой реализации или находящаяся под воздействием этого эстетического впечатления, нуждается в некоторой передышке, то не от обилия жизни и форм ей надо отдохнуть, а от громадности бесконечности и безмолвного покоя, и это она может получить как раз в обратном – в щедрости форм и деталей жизни. Что же касается возражений по поводу массивности и титанизма конструкций дравидийской архитектуры, то едва ли можно иными средствами добиться желаемого ею духовного эффекта: бесконечное, космическое, увиденное в его цельности, в огромности его проявления, титанично, мощно по материалу и силе. Оно означает и другие, и совершенно разные вещи, но ничто не отсутствует в индийских сооружениях. Вопреки суждению мистера Арчера, великие северные храмы обнаруживают удивительное изящество в силе, светоносную легкость, скрадывающую их мощь и массивность, изысканность и красоту в орнаментальном изобилии. Разумеется, это не греческая легкость, ясность и обнаженность благородства, нет здесь и исключительности, скорее, – тонкое соединение противоположностей, вполне отвечающее религиозному, философскому и эстетическому духу Индии. Все это присутствует и во многих дравидийских строениях, хотя в определенных стилях юга это смело отбрасывается или проявляется лишь в малых формах – хотя мистера Арчера и это все равно радует, как оазисы в невнятной для него пустыне мощи и величия, – но отказ от легкости, в любом случае, диктовался стремлением дать полное выражение эффекту грандиозности и величия.