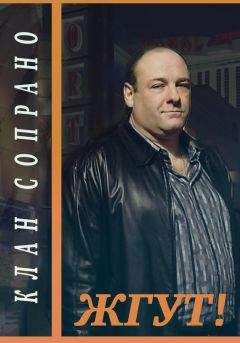Юрий Лотман - Сотворение Карамзина
уже расширяют сферу игры, обращая ее на самое высказывание, которое одновременно должно восприниматься и как авторское утверждение (с проекцией на Чаадаева), т. е. «серьезно», и как ирония над этим самым утверждением.
Пушкин очень точно определил связь «серьезной» поэзии с традицией XVIII века, противоположной карамзинизму, и игровой тип отношения к тексту у Карамзина и его школы: Катенин, писал он Вяземскому, «опоздал родиться <…> характером принадлежит он к 18 столет<ию>». «Мы все, по большей части, привыкли смотреть на поэзию, как на записную прелестницу к которой заходим иногда поврать и поповесничать, без всякой душевной привязанности и вовсе не уважая опасных ее прелестей. Катенин напротив того приезжает к ней в башмаках и напудренный и просиживает у нее целую жизнь с платонической любовью, благоговением и важностью» [290].
Бывают исторические моменты, когда личное поведение писателя становится неотъемлемой частью не только его человеческой позиции, но и самой литературной деятельности: оно входит в сферу творчества и воспринимается современниками как его органическая часть. Такое положение, как правило, свойственно ранним этапам литературных эпох, их «буре и натиску». Поведение романтика, нигилиста, футуриста и т. п. в момент зарождения этих явлений играет роль своеобразного опознавательного знака, знамени, эмблемы, по которым тот или иной деятель опознается друзьями и врагами и опознает сам себя. Тяготение Пушкина 1830-х годов к простому поведению («зло самое горькое, самое нестерпимое для стихотворца есть его звание и прозвище, которым он заклеймен и которое никогда от него не отпадает» [291]) и отрицание «поэтического поведения» как пошлости — свидетельство зрелости художественного сознания. Знаково-опознавательная роль поведения неизбежно приводит к его утрировке и той или иной форме щегольства. Нигилисты 1860-х годов так же щеголяли длинными волосами и неопрятностью одежды и рук, как Чаадаев — утонченной простотой фраков и ухоженностью ногтей или Лермонтов — контрастом между потертостью ношеного мундира и тонкостью белоснежного белья из голландского полотна.
У Карамзина бывали периоды — например, в 1783–1784 годах, в Симбирске, когда Дмитриев запомнил его «играющим ролю надежного на себя в обществе», — светских увлечений, времени, отданного быстрым романам и карточной игре. Однако знаком некоторого социо-культурного самоопределения маска щеголя сделалась для него лишь в «штюрмерский» период формирования его литературной позиции, т. е. в 1790-е годы. Маска эта была частью его более общей культурной позиции.
ПРОГРАММА: ПРОГРЕСС И НЕЗАВИСИМОСТЬ
Как ни менялись воззрения Карамзина на протяжении его жизни, идея прогресса оставалась их прочной и постоянной основой. Выражалась она в представлении о непрерывности совершенствования человека и человечества. Не случайно, при всей существенности влияния «красноречивого» (выражение Карамзина) Руссо на «чувствительного» Карамзина, идеи Вольтера сыграли более значительную роль для «русского путешественника» и будущего автора «Истории государства Российского». Само содержание понятия «прогресс» менялось во времени, да и в один и тот же момент, в силу своей неопределённости, могло получать разный смысл. Оно могло означать непрерывность развития просвещения, наук и знаний в истории человечества, закономерность изменения понятий, оправданность эволюции языка, веру в рост начал гуманности и терпимости. Акцент мог ставиться на успехах цивилизации, включая рост комфорта или вежливости, или на совершенствовании душевных качеств отдельной человеческой личности. Однако все это были различные грани одной и той же идеи, основные же ее постулаты: представления об улучшении человека и человечества, о закономерности поступательного развития, о единстве исторического пути различных народов — оставались неизменными. Это был тот просветительский оптимизм, который наиболее полно выразил Кондорсе в «Опыте исторической картины прогресса человеческого разума», труде, написанном в 1793 году, когда сам автор был объявлен вне закона и скрывался в тайном убежище, чтобы спастись от смерти, избежать которой ему все равно не удалось. И как картины кровавой политической борьбы, свидетелем которой он в этот период был, и тень гильотины, нависшая над его собственной судьбой, не могли поколебать исторического оптимизма Кондорсе, так кровавые события революций и войн, свидетелем которых Карамзин стал, приглашенный «как собеседник на пир» истории, не могли в его глазах опорочить самое идею прогресса. Он мог переживать минуты отчаянья и сомнений, периоды пессимизма, но идея прогресса, в конечном счете, все равно торжествовала, как ultima ratio, в форме утверждения, что пути, по которым Провидение ведет человечество к высокому совершенству, остаются для людей тайной.
Идея прогресса органически связывалась с проблемой личности. Связь двух этих начал могла выражаться в философских размышлениях об отношении общего и частного, в дискуссиях о соотношении государственного начала и личной свободы. Она лежала в основе политической эволюции Карамзина и его разногласий с юным Пушкиным и Вяземским, критики, которой подвергали концепцию Карамзина декабристы.
Политические воззрения Карамзина изучены достаточно хорошо и, как самостоятельная тема, лежат вне плана данной книги. И все же один аспект ее необходимо отметить, тем более что он органически связан с биографической проблемой формирования личности писателя и слишком часто смешивается с общей характеристикой его идейной позиции. Проблема политической свободы никогда не сливалась для Карамзина с проблемой личной независимости. Если политическая свобода определялась для него как отношение человека к государству, и здесь, в определенные моменты, он склонен был признавать приоритет государства как выразителя общих интересов, то независимость — право человека думать и говорить то, что думает, одеваться и вести тот образ жизни, который ему свойствен, иметь свою систему ценностей, не отчитываться в своих эстетических или моральных предпочтениях ни перед кем, кроме своего Разума и Бога, быть самим собой — была для него неотъемлемой от самого понятия человек. Если отказ от политической свободы, в определенных условиях, — героическая жертва, которую гражданин приносит общей пользе, то отказ от личной независимости, отказ от себя превращает человека в раба.
Карамзин высоко ценил свою личную независимость и ни ради чего ею не поступался. Он мог огорчить либерального Александра I своими консервативными суждениями, а Аракчеева — нежеланием нанести ему визит, но не мог сказать не то, что считал истиной.
Защита своей независимости порой заставляла мягкого по характеру Карамзина совершать поступки, которые воспринимались как вызов и плодили ему врагов. Так, например, не следует забывать, что ранний выход в отставку не был в ту пору нейтральным или незаметным поступком. Если он прощался юному магнату, владельцу тысяч душ, то со стороны «нищего» (по представлениям той поры) молодого офицера такая «беспечность» и презрение к общепринятым путям воспринимались как вызов. Общество не любит тех, кто уклоняется от торных дорог. Для Карамзина 1790-х годов это стало жизненным принципом. Напомним, что, когда Новиков на листе допроса написал, что вышел в отставку гвардии поручиком, то Екатерина II сбоку приписала: «Можно сказать, что нигде не служил, и в отставку пошел молодой человек… следовательно, не исполнил долгу служением ни государю, ни государству» [292]. Карамзин же дерзко бравировал ранней отставкой, поместив в «Послании к женщинам» стихи:
…В ВОЙНЕ ДОБРА НЕ ВИДЯ,
В ЧИНОВНЫХ ГОРДЕЦАХ ЧИНЫ ВОЗНЕНАВИДЯ,
ВЛОЖИЛ СВОЙ МЕЧ В НОЖНЫ
(«МИНЕРВА, ТОРЖЕСТВУЙ, —
СКАЗАЛ Я, — БЕЗ МЕНЯ!») [293]
Поскольку Минерва — общепринятая в поэзии тех лет персонификация Екатерины II, дерзость этого стиха превосходила все допустимое [294]. Столь же вызывающей демонстрацией была публикация в «Московском журнале» оды «К милости» в защиту Новикова и его друзей. При этом следует подчеркнуть, что Карамзин уже идейно и лично разошелся с этим кругом и слышал от бывших наставников только едкие насмешки. Да и сам он был под подозрением по делу московских масонов. Казалось бы, ни честь, ни соображения простого благоразумия не требовали демонстрировать близость, которой уже не было. Но чувство независимости порой презирает «благоразумие».
Погодин, с характерной для него нечуткостью, недоумевал, «каким образом и. Екатерина, следившая зорко за всеми явлениями литературы, принимавшая даже сама деятельное участие в ее успехах, не обратила своего внимания на Карамзина». И заключал: «Невнимание должно было огорчать и смущать Карамзина» [295]. Трудно быть дальше от истины!