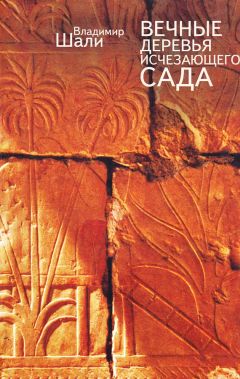Владимир Бибихин - Переписка 1992–2004
Решение Т. Манна своеобразно, но в большом обобщении язык многих значительных авторов первой половины двадцатого века можно назвать “герметическим”, в каждом случае по — своему “гуманизирующим” мифический по своему происхождению и по своему существу язык поэзии, “язык богов”. Самый простой путь такой гуманизации — прозаизм; но в своей окончательной последовательности это путь евгемерческий: “мифа” вообще не остается. Возможны и куда более сложные и тонкие пути “укрощения” или “отрезвления” или “взросления” языка поэзии: риторические стратегии Рильке или Элиота или Мандельштама или Джойса (подробнее аргументировать тезис о “герметизме” языка каждого из названных и многих других авторов здесь нет возможности).
Итак, о мифе, как его видят Кереньи и Манн, пожалуй, довольно. Добавим немного к тому, что по ходу дела уже говорилось о духе. Мы уже говорили, что этот дух, противостоящий жизни, как его понимают и Кереньи, и Манн (и Клагес, и Вас. Розанов, и, видимо, вся посленицшеанская эпоха) совершенно отличен от духа христианской традиции. Это исключительно человеческое, субъективное и индивидуальное начало (отсюда синонимия “духа” и “гуманизма” у корреспондентов), свобода дистанцирования, предметного рассмотрения и анализа, систематическое сомнение, просвещенческий esprit. Это то, что отличает человека в живом мире. “Духовное” в таком понимании, критичное по преимуществу, то есть, судящее и рассуждающее, холодное, близко рассудочному и ироничному (во всяком случае, умственному и никак не сердечному). “Божественность” такого “духа” (см. начальную цитату из Т. Манна), отдаляющего его носителя от наивной “жизни” и тоскующего по ней (частая тема тоски духовного по живому у Т. Манна: “Тонио Крегер”) единственно в том, что он сообщает свободу человеческому Я. “Я вам не игрушка!” — как бы говорит такой “человек духа” всем надчеловеческим и недочеловеческим стихиям. Без “духа” он отдался бы им с потрохами (что и предлагает “философия жизни”). С “духом”, однако, он становится как бы иноземцем среди людей и изгоем космоса. “Дух” — это его высокая болезнь; здоровье “недуховно”, простота “недуховна”, сердечность и чувствительность “недуховны”. Произведения искусства создаются не “духом”, а гением (инстинктом, манией и т. п.). Каким путем из Жизнеподательного Духа получилось это странное, почти садо — мазохистское, отнимающее нас от “природы” начало, может проследить историк идей. Мы же в Переписке застаем его уже таким, готовым.
Это употребление, хотя и подхваченное в предреволюционные годы в России, тем не менее расходится с обиходным (тоже совсем не церковным) употреблением слов “дух”, “духовный”, “духовность” в русском языке. Здесь “духовным” называют творчески — культурное — и конечно, не критическое, а позитивное. Обобщение этого представления мы найдем в трудах Я. Голосовкера: “Слово “дух” и означает высший инстинкт культуры, который живет в воображении, сидит в нем и через него развился и развивается, то есть проявляет себя как знание”[79]. Иначе он называет “дух” “Имагинативным Абсолютом” (с.75) и противопоставляет его отвлеченному разуму, ratio, “рассудку — контролеру” — то есть, “духу” в значении Т. Манна! Порождения “духа” у Голосовкера — “культуримиганации”, иначе “смыслообразы” (такие, как Прометей и Демон, но также и такие, как Красота, Благо, Истина)… Все, что описывает Голосовкер и что так привычно в русском употреблении, совпадает с мифом Кереньи! Это отступление в сторону российского современника — и коллеги — Кереньи и Манна я делаю для того, чтобы подчеркнуть, как трудно представить нам другое, негативно — критическое, именно “контролирующее” (как это возмущает Голосовкера!) представление “духа”. В конкретно духовном контексте православной аскетики этот, немецкий “дух” отчасти близок “духу трезвения”, который и в самом деле — враг воображения, понятого как “мечтание” и “соблазн” (впрочем, Голосовкер противопоставляет воображение фантазии, хотя все его попытки определений своих основных терминов совершенно неудовлетворительны: еще бы, зачем “контролировать”!).
Но вернемся к духу Кереньи и Манна. Оставаясь собой, “духовность” такого рода вряд ли может гуманизовать миф: она его просто упразднит, переобъяснит, деконструирует (так в последние десятилетия мы видели множество деконструкций таких вещей, которые во времена Манна к мифу или мистике еще не причисляли).
Но, как мы говорили, речь и не идет об одностороннем просветлении мифа рациональным адогматичным духом. Речь идет об укрощении и возвышении этого духа: о восстановлении почтительного внимания к преданию, к древним прообразам, о доверии к ним (подобном отношению юного Иосифа к отеческим преданиям или — в комическом варианте — уважении авантюриста Круля к природе), о благоговении перед неразгадываемой глубиной традиции и космоса. Homo humanus нового “религиозного гуманизма”, о котором думают Манн и Кереньи, осуществляет себя не через “победу над природой” (в том числе, над собственной природой, физической и психической), но через дружеское сотрудничество с ней, через почтительное исполнение ее законов. Чтобы исполнить эти законы, их нужно услышать: и такой гуманистический человек более всего занят познанием и самопознанием, медитацией и рефлексией, вслушиванием в то, что говорит через него. Исполнить законы надличного и остаться при этом свободной личностью — задание парадоксальное. И здесь Т. Манн предлагает стратегию игры с прообразом, игры серьезной и самозабвенной: так играет с преданием его Иосиф.
Таким образом должна была бы смягчиться прирожденная антидогматичность гуманизма, ставшая его собственным догматом — и часто более жестким, чем все позитивные догматы религий. Миф, как мы помним, то “что нас связывает” (связывает между собой; связывает с Иным; связывает с собственной молчащей глубиной; связывает руки нашей дерзости). Тогда, в примирении с мифом, с общим и глубинным, должен был бы смягчиться индивидуалистический идеал гуманизма — и казалась бы не безнадежной перспектива гуманистической “соборности”, “своего рода гуманистического католицизма”, как называет это Кереньи, “всемирного Веймара”. Казалось это, впрочем, только Кереньи: Т. Манн ясно видит утопичность такого проекта: “Веймара больше нет, мирового правительства (при котором только и была бы возможна такая наднациональная внеконфессиональная “церковь” гуманистов), еще нет”[80], замечает он.
Мы уже говорили, что от “среднего мира” Гермеса пути Кереньи и Манна идут в разные стороны. Т. Манн проницательно видит реальность “нового варварства”, явление “расчеловеченного человека (entmenschente Mensch)”, одичавшего или вообще не знавшего воспитания, в роли главного действующего лица истории. В это время и в ответ на это, полагает он, и “дух” вступает в свою “эпоху упрощения и мужественного различения добра и зла… не усматривая в этом (различении) никакого ущерба нашей тонкости (Finesse)”: “Это его (духа) способ одичания и омоложения. Да, мы вновь знаем, что такое добро и зло”[81]. Не удивительно ли? Не только мифическое, но и дух, начало дистанции и различения, оказывается, в своем зрелом, утонченном состоянии не различал добра и зла! Ему нужно “упроститься”, чтобы их различать! И мы не можем не чувствовать, что это правда о духе и гуманизме. Что этот свободный и освобождающий дух каким‑то образом избегает такого элементарного различения. Оттого ли, что это недостаточно культурно? Или оттого, что это более, чем мифично: в том смысле, что это различение глубже человека, раньше его? Но что же тогда различает эта воспитанная столетиями культурной работы Finesse? Она различает — так мне представляется — упрощение, незаконную генерализацию. Она сигнализирует о таких ложных утверждениях, как миноискатель. И все. И разве этого мало? В иные времена вполне достаточно. Но добро и зло, жизнь и смерть различает, видимо, другой прибор. И кажется, мы даже знаем, как называется этот прибор: в Библии он называется сердцем.
Мерцающая связь, которую осуществляет Гермес между полюсами духа и природы (“маятник, колеблющийся между духом и природой, — вот закон Гермеса”, Переписка, 30), между двумя началами, как выясняется, равно не знающими различения добра и зла, — это все же не Третье. Третье — что‑то совсем другое. В блаженной зоне бытия играет безучастность, в мире смертных различает сердце, как это говорит над погибшим протагонистом “Доктора Фаустуса” матушка Помалкивай — Швайгештиль.
Наш Doctor Hermeticus, обратившись к “расчеловеченному миру”, неожиданно принимает образ, близкий простодушному средневековому хронисту, который описывает “историю несчастной души человеческой, соблазненной диаволом” (“Доктор Фаустус”) — историю, которая по существу своему не мифична и которую “гуманизировать” невозможно[82]: это шаг за пределы мифа и гуманизма, классического и неоклассического, герметического — перед лицом реальностей вины, греха и совершенно неведомого ни мифу, ни гуманизму дьявола. Таким путем, говорит Т. Манн, “дух вернется к вечно замысленной для него роли: роли Давида против Голиафа, к образу Святого Георгия против змея лжи и власти” (“Культура и политика”). Но не другой ли уже это дух? Это уже не дух дистанции, а дух, ввязавшийся в битву с небытием, то есть дух творчества.