Татьяна Григорьева - Японская художественная традиция
Для японцев красота всеобща: каждая вещь, сколь бы ни была она мала и незаметна, содержит красоту (би). Японцу не пришла бы в голову мысль, естественная на почве антропоцентризма: «Прекраснейшая из обезьян безобразна, если ее сравнить с родом человеческим» (Гераклит). С точки зрения японцев, и неуклюжее, неискусное, угловатое обладает своей красотой (тисэцу би). Красота не могла бы стать законом, если бы любая вещь не была по-своему красива. «И некрасивая вещь, если она становится предметом поэзии, — уверял Фудзивара Тэйка, — не может не быть прекрасной» (цит. по [184, с.192]). У японцев не могло появиться понятия безобразного как антипода прекрасного, так же как оно не могло не появиться при дуальной модели мира, при склонности сознания разделять все на противоположности. Представление о красоте отражает представление о мире. И если сознание допускало существование части и целого, то и красота должна была восприниматься подобным же образом. Плотин в «Эннеадах» выступил против традиционного деления прекрасного на части и целое, потому что прекрасное всегда есть целое; там, где нет целого, нет полноты и единства, нет и прекрасного. «Но такая трактовка, — по замечанию В.П. Шестакова, — находится в полном противоречии с античным пониманием прекрасного как гармонии или симметрии частей» [192, с.51].
Представление о красоте таково же, каково представление об абсолюте. Если с точки зрения западного понимания абсолют надприроден, если он — вечный свет, то и «подобающая богу красота, неразложимая, благая, таинственно-начальная, — как сказано в Ареопагитиках, — безусловно, не входит в смешение ни с каким неподобием; и все же она способна уделять каждому по его достоинству долю своего света и каждого приводить в божественнейшем таинстве посвящения к созвучию со своим неизменяемым ликом» [9, с.610].
Если абсолют присутствует в каждой вещи в полной мере и вне вещей не существует, то и красота имманентна вещам и в каждой вещи присутствует в полной мере. То, что заложено в сознании в пору его формирования, не исчезает бесследно. Нет ничего удивительного, что в западном мире от красоты естественным образом отделилось уродство, от прекрасного — истинное. В XIX в. это привело к альтернативе: красота или добро. «Понятие красоты не только не совпадает с добром, — писал Л. Толстой, — но скорее противоположно ему, так как добро большею частью совпадает с победой над пристрастиями, красота же есть основание всех наших пристрастий» [169, с.370]. Это, разумеется, не единственно возможный взгляд на вещи. Достаточно вспомнить Гёте: «Прекрасное выше, чем доброе; прекрасное заключает в себе доброе» (цит. по [66, с.98]). Но и Л. Толстой не был одинок — он выразил настроение своего времени. Потому он и искал в китайских учениях «внутреннее равновесие», «тот корень, из которого вытекают все добрые человеческие деяния», что не находил его вокруг себя.
Японцы понимали красоту «недуально»: красота и есть добро. Красота неотъемлема от истины. Как сказал Тагор, «Япония дала жизнь совершенной по форме культуре и развила в людях такое свойство зрения, при котором правду видят в красоте, а красоту — в правде» (цит. по [62, с.34]). Красота нравственна, иначе она не стала бы законом искусства, его движущей силой.
Моно-но аварэ можно почувствовать благодаря определенной стилевой манере, благодаря искусно найденному слову. Выявлению внутренней сути подчинена сложнейшая система художественных приемов. Мурасаки так говорит о значении формы: «Например, резчик по дереву выделывает различные вещицы, выделывает, как это ему нравится. Но ведь все это — пустячки. Прихоть момента. Никакой определенной формы, никакого художественного закона в такой вещи нет... Конечно, среди них встречаются вещи и действительно красивые; они приспосабливают свою форму ко вкусам своего времени, оказываются поэтому модными и привлекают к себе человеческие взоры. Однако изготовить предмет украшения красивый по-настоящему, по-серьезному, изготовить по определенной форме, безукоризненно в художественном смысле — вот тут-то и проявится ясно искусная рука истинного мастера» [83, с.205-206]. Только мастер может дать жизнь подлинной форме, следуя не произволу фантазии, а чувству прекрасного.
По мнению Хисамацу, «Гэндзи» не описывает как есть жизнь и характеры того времени, автор не ставит своей целью сообщить об истинном положении вещей, а создает свой мир, который как бы воздвигается над действительным. Но этот создаваемый мир черпается не из легендарного, как в «Такэтори-моногатари», а из самой реальности. «В эпоху древности изображать вещи как они есть значило не достигать красоты, не достигать моно-но аварэ. Жизнь, представленная в моногатари, не есть подлинная жизнь тех времен, это скорее храм красоты, воздвигнутый над действительностью» [184, с.179].
Макото, душа литературы, каждый раз выражалось через какую-то грань красоты. Когда Хисамацу Сэнъити пишет: «В моно-но аварэ привносились разные оттенки, но своего эстетического смысла оно со временем не меняло... в комплексе моно-но аварэ неизменно» [184, с.26], он не далек от истины. В иные времена господствовали иные эстетические принципы, но все они произошли от одного корня, имеют с моно-но аварэ общую родословную. Моно-но аварэ как бы изначально содержало в себе зародыши последующих категорий прекрасного.
После периода Хэйан наступила самурайская эпоха Камакура. Один могущественный род — Минамото — стер с лица земли другой могущественный род — Тайра. Предававшиеся утонченным наслаждениям, отошедшие от дел аристократы не шли в расчет на поле брани. В 1192 г. Минамото Ёритомо был провозглашен сёгуном, высшим военачальником Японии. Власть императора стала номинальной. Эпоха сёгуната, самурайского правления, продолжалась до середины XIX в.
Безграмотные воины поначалу пренебрегали изысканной культурой, доставшейся им в наследство. Там где властвует грубая сила, не расцветают цветы искусства. Падение несокрушимого, казалось бы, дома Тайра не могло не сказаться на психологии людей: буддийская идея непрочности всех человеческих деяний нашла подтверждение в жизни. Иной душевный настрой потребовал иных средств выражения. Когда в начале XIII в. искусство очнулось, оно, если воспользоваться словами Сэами, обладало «красотой увядшего цветка». Искусство исповедовало мудзё — закон непрочности вещей. На этой почве созрела эстетика югэн.
Природа художественного процесса такова, что одно процветает, но сходит вместе со своим временем, другое оседает на дне памяти и продолжает жить, принимая новое обличье. В грубые времена красота уходит в глубь сознания, в благоприятные — возвращается. То, что заложено в памяти нации, неистребимо. В искусстве Муромати вновь стали ценить превыше всего прекрасное. Теперь его понимали как югэн, — таинственное, скрытое. «Скрытое есть во всем — это прекрасное», — говорил Сэами [42б, с.30]. Поэзия должна доносить неуловимое, оно и есть реальное, единственно, что вечно в этом мире.
Люди поворачивают эстетический многогранник той стороной, которая ближе духу их эпохи. Карма, с точки зрения японцев, привела моно-но аварэ к югэн. Уже поэт Фудзивара Сюнсэй говорил, что югэн есть перевоплощенное моно-но аварэ. И Сэами в последней главе трактата «Кадэнсё» («О преемственности цветка»), называя формообразующий дух красоты «цветком» (хана), пишет: «Цветок и есть инга (закон причинности. — Т.Г.). Все в мире следует этому закону» [42б, с.62]. Закон красоты определяет путь искусства.
Время смещало акценты, эстетическое же назначение искусства оставалось неизменным — выявлять внутреннюю суть вещей, которая понималась то как «очарование», то как «таинственность», то как «печаль», то как смех», но основой оставалась красота.
Если глубоко ощутить разницу между двумя концепциями красоты — аварэ и югэн, то можно понять, какие перемены произошли в жизни Японии. Моно-но аварэ — знак дружелюбного настроя, некоей беспечности людей, не знавших больших потрясений, уверенных в своей незыблемости. Отсюда — восторг перед миром и любование им, интимно влюбленный, доверчивый взгляд на природу и человека, желание наслаждаться тем, что открыто взору и слуху. Аварэ иногда понимают как печаль, скорбь, но это скорее игра в скорбь, чем сама скорбь, это та скорбь, к которой склонны баловни судьбы. Эстетизируются быстро облетающие цветы сакуры или нежданная разлука с любимым.
Югэн — это аварэ, прошедшее сквозь жестокость самурайских битв, обострившееся чувство непрочности существующего и непредсказуемости грядущего. Если аварэ — светлое ян, то югэн — непроницаемое инь (хотя и эти категории недуальны: в аварэ присутствует недомолвка, а в югэн — восторг). Югэн — дух прекрасного, но не явного, как аварэ, пленительного своей непосредственностью, а скрытого, тайного, недоступного взору. Термин югэн в отличие от аварэ — китайского происхождения: мастер чань Линь-цзи (яп. Риндзай) говорил: «Закон Будды и есть югэн» [208, с.44]. В Японии этот термин впервые встречается в китайском варианте предисловия к «Кокинсю», но только в период Муромати он становится ведущей эстетической категорией.
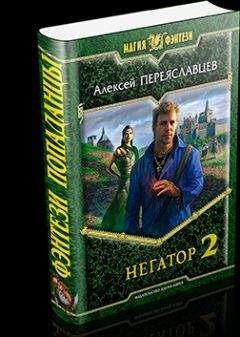

![Алексей Переяславцев - Негатор, или История неправильного попаданца [СИ]](/uploads/posts/books/199519/199519.jpg)
