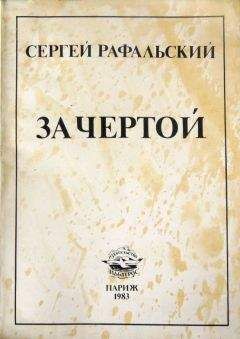Александр Михайлов - Избранное : Феноменология австрийской культуры
Я не музыкальный критик и не ношу в себе эталон смысла каждого произведения, чтобы потом сравнивать с ним исполнение. И более того, я даже думаю, что таких критиков вовсе нет и никогда не было. Когда покойный музыковед напоминает нам, что вторая часть Третьей симфонии Малера — «это менуэт, полный изящества и грации», то это только формально верно: кто поверит написанному, будет унесен своим слухом совсем не в ту сторону. Александр Лазарев, решившись исполнить симфонию без перерыва, очень ясно показал и дал услышать, что эта вторая часть — вдруг резко сузившийся и уменьшившийся в размерах малеровский мир, после смятений громадной первой части обратившийся на покое (временно и условно) к воспоминаниям. Будущее, о котором мечтает и бредит малеровская симфония, чуть приутихло, а прошлое просветленно; и не утрачивается, и не исчезает лишь вечная неустойчивость настроения, поток вольного, капризного и переливчатого переживания. Вот ведь какова проблема: откуда взять силы и способности, чтобы отождествиться (хотя бы в какой-то мере) с этим далеким уже от нас, невоспроизводимым и столь многолико-конкретно представляемым миром? Откуда взять их слушателю и исполнителю?
И вот, слушая Третью симфонию 22 мая, я замечаю, что сам остаюсь во власти воспоминаний — о том, как слушал эту же симфонию 28 или 29 лет тому назад под управлением Кирилла Петровича Кондрашина, и о том, как поразила и заставила меня онеметь первая ее часть. И я вдруг замечаю, что это воспоминание мешает мне слушать теперь, и затем — что мешает все: например, акустика Большого театра, то, что в ответ на всякий громкий звук начинает дребезжать что-то на ярусах и что всякую громкую фразу труб и тромбонов сопровождает их призрачный двойник в другом конце зала. Это я пишу только для того, чтобы сказать, как несовершенны бывают слушатели и как неуместно им судить об услышанном (и насколько полезнее и перспективнее заняться анализом своего слушания и своих воспоминаний). И я долго не мог войти в эту новую Третью симфонию Малера и вошел, собственно, только тогда, когда меня «отпустило» то прежнее исполнение, врезавшееся в подсознание. И можно было понять, почему оно меня «отпустило», — и здесь дело не в превосходном качестве нового исполнения, и не в выдающемся соло Ядвиги Раппе из Польши. У Кирилла Петровича Кондрашина и его московских исполнениях Третьей симфонии Малера был один неминуемый провал: из каких-то недалеких соображений глубоко проникновенный текст Ницше о человеке и ночи был заменен размашисто написанными русскими строками — пустыми ни о чем; они и не могли не испортить музыку Малера изнутри, порождая контраст смысла и бессмыслицы (хотя слова и слышались наполовину, на треть, — как бессмыслица, они играли свою роль в полную меру). К. П. Кондрашин — я в этом уверен — был дирижер гениально одаренный, резко недооцененный при жизни и, наверное, даже по ряду причин не вполне реализовавший себя. Тут же ему почему-то надо было принять правила двойной игры — для заграницы он записал симфонию Малера с оригинальным текстом, для России — с порченным. Неизбежно центр тяжести его исполнения Третьей симфонии заключался в первой части, в итоговой последней части. Вчера, 22 мая, это было иначе — центр был (разумеется, для меня я ведь анализирую только то, как я услышал) в четвертой и пятой частях, скорее даже в одной четвертой, хотя и последняя, шестая, отнюдь не утратила своей собирающей и мирящей всякий разлад энергии. Разумеется, исполнение четвертой части блестяще опровергло суждения глухого музыковеда — она будто бы оцепенелая и полностью неподвижная! Это волнение глубины в малеровской музыке, написанной лет через 35 после «Тристана», бесподобно и подлинно. Может быть, с него начинаешь сегодня верить в Малера, верить ему и его музыке, тем более что нам, в наш исторический час, самое время думать вместе с ним о «ночи, которая глубже, чем думал день».
Воспоминания и мысли о будущем пробуждаются при слушании Третьей симфонии Малера и после ее прослушивания. Это, кто знает, не те ли мысли, которые все-таки не мешают слушать музыку, а приходя!' в унисон с ее собственными мыслями. Какое оно будет, это грядущее будущее? Эго не вопрос мечтателя, а страшный вопрос. Вопрос задается музыкой, ответ дается реальностью. В вопросах музыки Малера — предчувствие счастья и предчувствие своей смерти и общей беды. Вопрос начала века (1902 — год первого исполнения симфонии): ответ — две мировые войны, террор и десятки миллионов унесенных жизней. Что будет ответом на этот же повторный вопрос, который мы расслышим вновь, слушая симфонию Малера спустя 88 лет после ее первого исполнения, спустя 130 лет со дня рождения этого невероятно чуткого человека с совестливой и нервной душой?
Вот в чем все дело. Поэтому мне всегда были малопонятны холодные обсуждения кондрашинских исполнений Малера, чему я был свидетелем, — что он неверно сделал, какие ошибки допустил и прочее. К чему все это, если здесь (как почти нигде более) все дело в целом — состоялся ли весь мир художественной мысли, осуществился он сквозь и через все удачное и неудачное в исполнении, утверждая одно и заставляя тотчас же забывать о другом? Смехотворно считать количество несовершенно исполненных фраз и случайных «киксов». Музыка Малера пространственна и мысли! большими пластами звуков и смыслов, даже с пустотами меж них. Огромный объем зала очень помог прозвучать постгорну с его щемящим душу соло, — едва ли где услышишь такую трепетную и ровную мягкость в широком, разреженном пространстве; тот же самый объем навредил, на мой взгляд предположительно, первой части.
Осмелюсь утверждать, что Третья симфония Малера, приросшая своими корнями и корешками к модерну конца века, к стилю какой-то новой для тогдашней поры молодости и свежести, и подростковой светлой и нежной мечтательности, так что детское и мудрое сплетаются в ткани этого произведения, изысканного и простого, порой ясного и внезапно — неохватного, — что Третья симфония Малера, старея, возрастает в своем значении по мере того, как сама жизнь заставляет нас задавать суровые и последние вопросы, как она учит нас задавать их и учит вспоминать, как это делали и делают люди. Так, самое первое и простое, что следовало бы непременно сделать, — это записать Третью симфонию Малера в этом исполнении. Записать ее как прежний вопрос, вновь отчетливо произнесенный 22 мая этого года, как вопрос, который касается всех и может коснуться каждого. Пусть его услышат и те, кого мы никогда не увидим и не узнаем.
Печатается по изданию: Советский артист. М., 1990. № 20. С.З.
Эдуард Ганслик и австрийская культурная традиция
Историк эстетики, писавший в конце прошлого века, заметил по поводу трактата Ганслика «О музыкально — прекрасном» следующее: «Хотя сочинение Ганслика вышло уже шестью изданиями и получило широкое распространение, оно еще не удостоилось настоящего раз-бора. Из него черпали материал для полемики с Вагнером, а не указания к правильному изучению музыкальных форм. Оно поэтому производило скорее воздействие негативного порядка, тогда как в нем заключено немало импульсов положительного познания. Однако последнее требует тщательного изучения и размышления, а многие музыканты и любители музыки видят в размышлении опасность для чувства»[1].
Эти слова вековой давности неожиданным образом сохраняют свою значимость и поныне: несмотря на широкую известность произведения Ганслика, оно до сих пор по-настоящему не исследовалось (хотя работы о Ганслике составляют длинный список, и среди них есть очень серьезные). Такая ситуация объясняется поразительным невниманием к духовным истокам эстетики Ганслика и, в целом, весьма отвлеченными представлениями о развитии культуры XIX века у исследователей его эстетического творчества. Разумеется, упущенное на протяжении столетия нельзя наверстать немедленно. Можно лишь указать для начала на некоторые, лежащие на поверхности явлений, обстоятельства[2].
Эдуард Ганслик (1825–1904) учился и воспитывался в Праге. Он изучал музыкальную композицию у Вацлава Яна Томашека, престарелого чешского классициста, недолюбливавшего Бетховена: философию в Пражском университете Ганслик слушал у Франца Экснера. Этот забытый теперь философ и общественный деятель произвел неизгладимое впечатление на будущего критика: в своей несомненно лучшей книге, воспоминаниях «Из моей жизни» (1894), Ганслик нарисовал прекрасный его портрет[3]. Разделявший идеи официально принятой в Австрии философии Гёрбарта, Экснер был, как бы втайне, приверженцем великого мыслителя Бернарда Больцано[4], вытесненного с официальных кафедр церковью и государством. Другом юности Ганслика был А.В.Амброс, впоследствии выдающийся историк музыки. Среди своих друзей Ганслик называет и Роберта Циммермана[5], ученика Больцано, «издававшего книги, — как пишет немецкий историк Э. Винтер, — целиком построенные на мыслях Больцано», и со временем ставшего «самым влиятельным философом второй половины XIX века в Австрии»[6]. Юность Ганслика протекала в богатой художественными впечатлениями и внутренне крайне напряженной обстановке предреволюционной чешско-немецкой Праги. Напряженность создавалась уже сложными отношениями двух наций, отношениями, в которых был заложен неразрешенный социальный конфликт. Однако Ганслик рос в таком культурном кругу, где национальные предрассудки не играли никакой роли: в своем доме молодой Ганслик мог встретить цвет чешского возрождения — Ф. Палацкого, В. Ганку, И. Е. Пуркинье[7]. Итогом юных лет, проведенных в Праге, и многообразных художественных и умственных впечатлений, полученных там (Ганслик уехал из Праги в 1846 году в Вену, где закончил университетский курс правоведения), и была книга «О музыкально-прекрасном» (1854), не утратившая своего значения до наших дней.