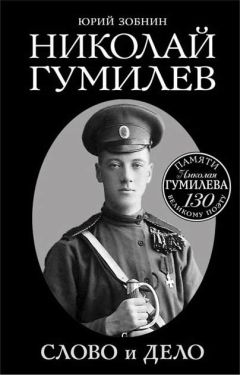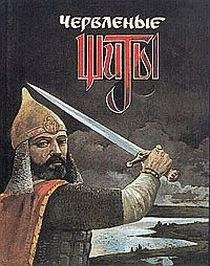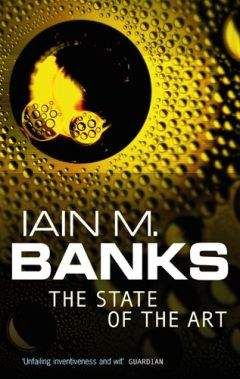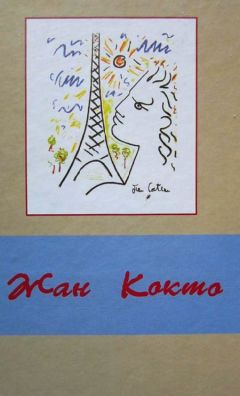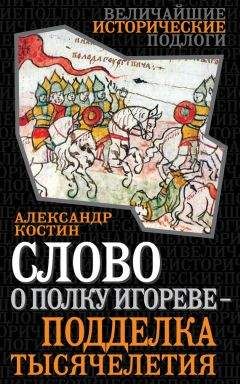Наталия Злыднева - Изображение и слово в риторике русской культуры ХХ века
Помимо отпечатавшейся в этимологии мифопоэтической реальности, половина как инверсированная двойственность для инженера Платонова могла представлять собой реалию графического мира цифр в форме записи простой дроби: 1/2. Тем самым половина/двойка Платонова выступает в визуализированном виде, что в свете рассматриваемой параллели с живописью Петрова-Водкина интересно само по себе. Половина как полнота – это характерная для Платонова погруженность персонажей и мира в состояние полужизни/полусмерти, которое – в силу своей граничности, то есть высокого экзистенциального напряжения, является подтверждением истинности и полноты существования. Такому пониманию двойственности соответствует и универсальное в языке и культуре участие концепта числа два в возрастании семиотического статуса (как день-ночь – сутки прочь), благодаря которому обозначивается участие объекта в космической синхронизации, столь важной для Платонова. Парность в качестве экзистенциала у Платонова существенна и как форма нейтрализации оппозиции – в частности, жизнь/смерть. Она реализует формулу и-и. Между тем то обстоятельство, что отнесенная к оппозиции жизнь/смерть по признаку одушевленности двойственность наделяет большей весомостью второй ее член, а именно – смерть, о чем уже шла речь, заставляет опять же обратиться к архаике: в индоевропейской традиции число два и четность в целом маркирует погребальный код, что представляет собой частный случай концепта полноты в связи с двойственностью, тем самым – завершенный цикл человеческой жизни.
Как видим, совпадений между Платоновым и Петровым-Водкиным в фокусе мотива двоичности великое множество. Прежде всего обращает на себя внимание частотность мотива и его интегрированность в самые узловые части поэтики. Но самое важное это то, что темы бренности существования и смерти на полотне Петрова-Водкина, развернутые на фоне архаичного концепта двоичности, в полной мере соответствуют топике двоичности как реликта двойственного числа, опрокинутого на ось мотивики, у Платонова. Соответствие обнаруживается и в равноценности соположенных частей, то есть избираемой обоими мастерами схемы «и-и».
Подобная маркированная архаизация двоичности в творчестве обоих мастеров не может быть рассмотрена вне рамок эпохи. И действительно, фюнеральный код в России 20–30-х годов – один из центральных кодов эпохи. На вид жизнеутверждающая риторика эпохи, построенная на идее бессмертия героев и визионерском мессионаризме, опускала настоящее в угоду прошлому и будущему, а тем самым актуализировала семантику переходных состояний, важнейшим из которых стал погребальный код. Погребальной семантикой отмечены многие начинания визуальной культуры эпохи – и план монументальной пропаганды, и мавзолей Ленина, и иконография московского метрополитена, и позднеконструктивистская (она же раннесталинская) архитектура. Она отражает частный случай концепта двойственности, которым отмечена вся мифологика этого времени.
Всплеск двоичности в культуре 20-х годов возникает как следствие архаизации сознания, пришедшего с революцией и имеет многообразные проявления[250]. Главным политическим императивом вскоре после революции становится противостояние двоичности во всех ее формах. Остаются неприкосновенными только сакральные близнецы Маркс и Энгельс (характерно, что близнечный культ Ленин-Сталин возникает после смерти первого). На идеологическом фронте разгорается борьба не столько за единичность (партийной линии, идеологического направления в мышлении, административно-хозяйственных структур всех сфер жизни), сколько именно борьба со вторым, а тем самым – экспликация его значимости, наподобие дуальной организации древних деспотий[251]. На этом пути с необходимостью возникает образ врага народа. Двойничество в советской культуре держится чрезвычайно долго – вплоть до массовой культуры 60-х, когда возникло знаменитое утверждение В. Высоцкого «Если друг оказался вдруг / И не друг, и не враг, а так», т. е. третьего не дано. Этот перевес горизонтального, по существу женского, утробного бинарного начала (ср. актуализацию архетипа Великой Богини в это время) над началом тетрарным и монитарным не мог быть поколеблен даже в годы войны. Более того, именно во время войны в тоталитарном советском режиме возникла первая брешь – наряду с Верховным божеством Сталиным появился мифологический герой маршал Жуков, и тем самым возник прецедент отрицания единичности, то есть произошло еще одно удвоение, на этот раз бросившее вызов эксклюзивности вождя и центричности тоталитарной системы.
Эксплицируя концепт двойственности по формуле «третьего не дано», официальная советская идеология разворачивала противостояние со своими явными и скрытыми оппонентами как или/или versus и-и. Вторая формула, несомненно, более архаическая, и не случайно именно она стала опорным механизмом в поэтике А. Платонова, основанной на нейтрализации полярностей. Совпадение Платонова с Петровым-Водкиным в экзистенциальном статусе мотива двойственности указывает на память культуры, хранящей верность традиционной картине мира.
Глава 3. Хармс и искусство
А) «Пустое место» у Хармса и его изобразительные контексты
Одновременно с инновациями в области научного миропонимания, а чаще существенно опережая их, пространство в искусстве 10–20-х годов обрело новое качество[252]. В русском авангарде возникли новые формы интериоризации внешнего пространства в художественном тексте[253], которые в соответствии с понятиями современной физико-математической модели мира можно свести к нескольким универсалиям: открытости, синтетизму, многоосевости и четырехмерности. С последними тесно связано и понятие бесконечности, характеризующее одну из пространственно-временных проекций авангардной «картины мира». Существенным дополнением к этим универсалиям служат локальные варианты пространственных моделей на уровне индивидуальных поэтик. С этой точки зрения особый интерес представляет творчество Даниила Хармса, в котором одной из главных тем (на семантическом и синтагматическом уровнях) является тема мира как сферы. Мифопоэтические смыслы пространства у Хармса в своих универсальных и специфических проявлениях обнаруживают множество точек соприкосновения с живописью авангарда. В рамках проблемы параллелизма поэтических систем живописи и литературы авангарда предметом настоящего очерка являются типологические схождения между видами искусства и творчеством отдельных мастеров, а также существующие независимо от индивидуальных установок формы семантизации пространственных представлений в тексте эпохи.
Картина мира Хармса пространственна par excellence. В отличие от Хлебникова, ведущей категорией смысло-образов которого является время («мера мира – Время»), у Хармса мир задается пространством, оно – мера. Среди наиболее часто встречающихся мотивов Хармса – такие идеограммы пространства, как сфера, шар и его антропный аналог – голова (Случаи. 13). Принцип сферической замкнутости определяет одну из наиболее распространенных композиционных схем у Хармса: рамочная конструкция, образованная повторением мотива в начале и конце новеллы, а также кумулятивная свернутость нарративной структуры. Примером первой можно считать начало и конец новеллы № 17 (Случаи. 1): в начале – «одна муха ударила в лоб бегущего мимо господина, прошла сквозь его голову и вышла из затылка», в конце – «муха… ударила в лоб и прошла насквозь головы, вышла из затылка и улетела опять в дом» (353, 296). Примером улиткообразной свернутости повествования служит композиционная структура новеллы «О том, как старушка чернила покупала» и рассказа для детей «Сказка». Сферичность композиционных структур в прозе Хармса обусловлена пространственной семантикой его текстов: в множественности осей выделяются особо горизонтали и вертикали.
Вертикальные оси актуализированы в оппозиции верх/низ. Пространство Хармса лишено гравитации, что, как мы помним по главе об инсектном коде авангарда, является родовым свойством авангардной поэтики, поэтому здесь все летает: «Вот и дом полетел / Вот и собака полетела / Вот и сон полетел / Вот и мать полетела» (стихотворение «Звонить-лететь»). Особенностью Хармса, дополняющей картину мира авангарда на излете, является то, что одновременно с невесомостью его мир наделен сверхгравитацией, поэтому здесь не только все летает, но и постоянно падает (см. новеллы из серии «Случаи»: «Вываливающиеся старухи», «Случай с Петраковым», «Столяр Кушаков», «Анекдоты о Пушкине»). Движение вверх и устремленность вниз – две фундаментальные для Хармса категории, обозначающие выход за пределы сферического центризма, чем этот последний еще больше акцентируется по негативному признаку.