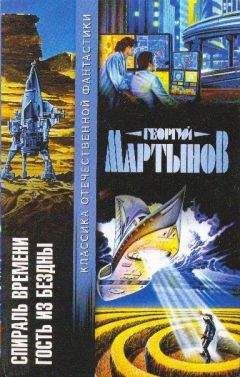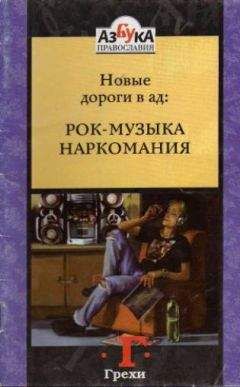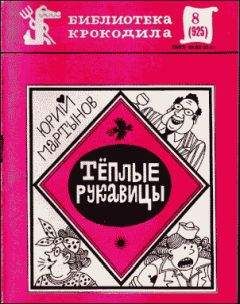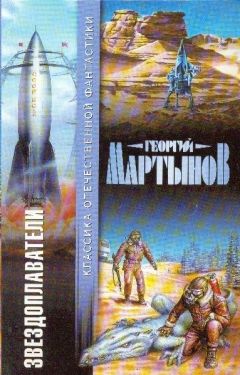Владимир Мартынов - Зона opus posth, или Рождение новой реальности
Когда мы говорим о классической музыке как об индустрии, то под этим следует подразумевать не только индустриальную масштабность, но и специфическое качество технологии. Очевидно, именно эта технологичность заставляет Гершковича отдавать предпочтение классической музыке по сравнению со старинной музыкой. Наверное, можно найти много доводов в пользу утверждения, согласно которому индустриальная продукция a priori качественнее продукции мануфактурной, но не меньшее количество доводов можно предоставить и в пользу противоположного утверждения, ибо по каким–то параметрам качество индустриальной продукции недостижимо Для мануфактурного производства, а по другим параметрам мануфактурное качество недостижимо для производства индустриального. Поэтому мы не будем углубляться в обсуждение данного вопроса и отметим лишь то, что при переводе разговора в музыкальную плоскость, мануфактурное и индустриальное производства следует рассматривать как разные формы существования музыкальных форм, причем не просто разные, но практически несовместимые друг с другом формы. В индустриальной среде мануфактурная вещь всегда будет восприниматься как некое чужеродное тело. В лучшем случае она будет почитаться как вызывающий уважение раритет, но это не уменьшит меру ее чужеродности. Именно желание преодолеть эту чужеродность привело к возникновению таких вещей, как листовские и бузониевские транскрипции произведений Баха. Еще в 20–е и 30–е годы XX века концертирующие пианисты считали д ля себя зазорным играть Баха в подлинном аутентичном виде. Для того чтобы полностью соответствовать атмосфере и пространству публичного концерта, произведения Баха должны были быть приведены в подобающий «индустриальный» вид, что и осуществляли такие виртуозы, как Лист и Бузони. Интерес же к подлинной старинной музыке, о котором с сокрушением пишет Гершкович, следует рассматривать как свидетельство того, что в отлаженной работе индустрии классической музыки появились какие–то сбои и что классическая музыка стала утрачивать свои претензии на универсальность.
Однако ограничения универсалистских претензий классической музыки стали воздвигаться не только со стороны старинной музыки. Еще раньше подобное ограничение было наложено со стороны современной музыки. Понятие «современной» или «новой» музыки возникло в самом начале XX века в связи с именами Шенберга, Стравинского, Веберна, Бартока и целого ряда других композиторов, радикальным образом заявивших о себе в 1910–е годы. Об этом общеизвестном факте я упоминаю только для того, чтобы обратить внимание на одно обстоятельство, связанное с понятием «современная музыка». До сих пор многие полагают, что современная музыка — это прежде всего революционные преобразования в области музыкального языка и средств музыкальной выразительности, однако на самом деле проблема кроется на более глубоком уровне, ибо эти преобразования затрагивают не только музыкальный язык, но само пространство музыки, вторгаясь в область негласных договоренностей и соглашений о том, что есть музыка и какова ее природа. Сомнению подвергается святая святых классической музыки — связка композитор — произведение — слушатель. Высказывание Шенберга «Публика — враг музыки номер один», а также постоянные скандалы, сопровождавшие многие премьеры Шенберга, Стравинского и Бартока, являются свидетельством глубокого кризиса, наметившегося в отношениях автора с публикой. Более того, кризис постигает не только эти отношения, но сам принцип публичного концерта, сам принцип публичности.
О том, насколько неуютно чувствуют себя произведения современной музыки в пространстве публичного концерта, пишет Булез, ссылаясь на опыт исполнения девятого, десятого и одиннадцатого opus’ов Веберна: «Исполнять такие произведения на концертах довольно трудно из–за их краткости, но в еще большей степени — из–за их сжатой звуковой динамики, использующей нюансы до пределов слышимости. Иногда встает элементарная проблема восприятия: например, в больших залах один только окружающий шум имеет тенденцию перекрывать динамический уровень музыки. С другой стороны, широкомасштабные психологические отношения с публикой могут устанавливаться лишь при наличии некоторого запаса времени и достаточных возможностей слуха; в противном случае, едва возникнув, контакт нарушается, и с каждой новой пьесой требуется возобновлять усилия для воссоздания «контура прослушивания». Отсюда у исполнителя появляется тягостное ощущение, что он чего–то не «ухватывает»: ему не предоставляют прямо–таки материальной возможности держать свою публику в руках, поскольку (другая грань этой проблемы) большая трудность произведений Веберна состоит в умении их прослушивать. Возможно, наша западная традиция недостаточно располагает нас к необходимости этого; Запад всегда нуждался в чрезмерно эксплицитном жесте, чтобы понять, что композитор имеет в виду. И если мы сравним, к примеру, стиль наших театральных актеров со стилем актеров японских или, к примеру, стиль наших танцовщиков со стилем индийских, мы сразу поймем, о чем идет речь. Как мы видим, Веберн является новатором не только в эстетике своих произведений, но еще и в физике и в жестах их концертного исполнения»[76]. Здесь Булез попадает в самую сердцевину проблемы. Непреложным законом и условием публичного концерта является обязательное установление «широкомасштабных психологических отношений» исполнителя с публикой, в процессе которых исполнитель схватывает и держит публику в руках, а публика отдается этим объятиям и жадно воспринимает то, что предлагает ей исполнитель. Однако в произведениях Веберна нет ни запаса времени, ни динамических звуковых возможностей для возникновения этих широкомасштабных отношений, в результате чего у исполнителя возникает тягостное ощущение, «что он чего–то не ухватывает», а у публики должно возникнуть не менее тягостное ощущение, что она чего–то не расслышала. И здесь дело вовсе не в том, что публика не доросла до понимания произведений Веберна, а в том, что произведения Веберна и публичный концерт представляют собой различные пространства, которые обладают различными, несводимыми друг к другу метриками и параметрами. Вот почему публика никогда не дорастет до понимания произведений Веберна. Для того чтобы дорасти до такого понимания, публика должна перестать быть публикой и образовать совершенно иной, новый «контур прослушивания», соответствующий веберновской «физике» и веберновскому «жесту».
В этих совершенно справедливых словах Булеза есть одна неточность. Когда он пишет о том, что «Запад всегда нуждался в чрезмерно эксплицитном жесте, чтобы понять, что композитор имеет в виду», то это следует отнести не к Западу вообще, но к тем формам западноевропейской культуры, которые она обрела в XVIII–XIX веках. Эти слова вполне приложимы к Бетховену, Вагнеру, Брамсу или Малеру, но мало подходящи для ситуации Данстейбла, Окегема или Джона Булла, а это значит, что говорить о «чрезмерно эксплицитном жесте» в полной мере можно только в отношении эпохи классической музыки и публичного концерта. «Чрезмерно эксплицитный жест» — это жест публичного пространства, и если произведения Веберна, да и большинство произведений современной музыки, перестают соответствовать этому жесту, то это не может свидетельствовать ни о чем другом, как только о конце публичного пространства.
В книге «Падение публичного человека» Ричард Сеннет пишет следующее: «Говорить о конце общественной жизни значит, во–первых, говорить о следствии, вытекающем из противоречия в культуре XIX столетия. Высказывание «публичная личность» оказалось оксюмороном; в конечном счете, личность вытеснила из этого словосочетания элемент публичности. Стало логичным приписывать каждому, кто умел выражать свои эмоции на публике, будь он актер или политик, некую особую и исключительную индивидуальность. Этим «мужам» приличествовало не столько взаимодействовать с аудиторией, сколько управлять ею. Постепенно аудитория утратила веру в свою способность судить о них; человек стал, скорее, зрителем, чем свидетелем. Аудитория, таким образом, потеряла ощущение самой себя как активной силы, как «публики». Кроме того, публичная личность упразднила элемент публичного, внушив людям страх перед непроизвольным проявлением своих эмоций на газах у других»[77]. Кризис публичности как свободного взаимодействия и как проявления активной силы аудитории Сеннет иллюстрирует на примере публичных банкетов, получивших массовое распространение в Париже и Лондоне в самом конце XIX века. На этих банкетах «собирались сотни, а иногда и тысячи людей, причем многие из них были знакомы только с несколькими из собравшихся. Сервировался стандартный обед, после которого два–три человека произносили речи, читая их по своей или чужой тетрадке. Банкет стал логическим концом того, что кофейни начали два столетия назад. Это был конец речи как взаимодействия, конец свободной, легкой и все же продуманной беседы. Массовый банкет стал эмблемой общества, которое оставалось верным публичной сфере как важной сфере личного опыта, но лишило ее смысла в отношении общественных отношений. По этим причинам к концу XIX века изменились основные свойства публики. Молчание превратилось в фактор зависимости в искусстве, изоляции — как — независимости в обществе. Вся мотивировка общественной культуры разбилась на части. Отношения между сценой и улицей перевернулись вверх дном. Ресурсы творчества и воображения, которые существовали в искусстве, теперь оказались непригодными для того, чтобы питать повседневную жизнь»[78]. Публичное пространство становится как бы «полым изнутри». Оно превращается в обязательную форму, претендующую на универсальность, но уже не имеющую собственного наполнения. Новый «композиторский жест» современной музыки, попав в это опустошенное пространство, в этот привычный «контур прослушивания», начинает восприниматься не просто как некое инородное тело, но как нечто незаконное. И когда Шенберг говорит о том, что «публика — враг музыки номер один», то его слова следует понимать не как банальную композиторскую обиду на банальное непонимание публикой его произведений, но как указание на изначальную, метафизическую несовместимость природы современной музыки с природой публики, современного композиторского жеста с ситуацией классического публичного концерта. Собственно говоря, этот новый композиторский жест современной музыки является не чем иным как реакцией на смерть публичного пространства — смерть, которая так и осталась неотрефлексированной присяжными носителями и представителями этого пространства.