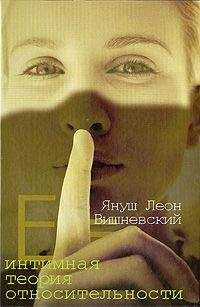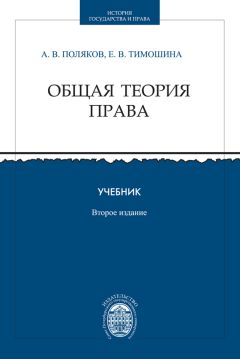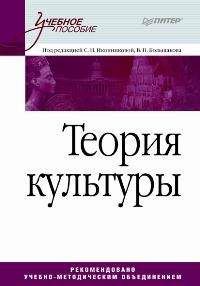Александр Михайлов - Языки культуры
Видимо, греки и были заинтересованы в создании именно таких словесно-изобразительных моделей-подобий мира, в которых ограниченность изобразительных возможностей дополнялась гибким и многообразно выразительным словом, немая запечатанность изображения — словесной интерпретацией, эксегезой, повествовательным разворачиванием сюжета, а зрительная нереализованность слова — резкой интенсификацией всматривания или внутреннего видения. Слово и явный облик нацелены друг на друга, они восполняют друг друга, имея общее основание — именно наперед заданную объемность, пластичность постигаемых смыслов. Надо думать, что и реальная древняя живопись согласовывалась с этим и принимала участие в этой системе сплошности, сводившей слово и зримый облик, в этой системе, опиравшейся на общее начало объемности. Можно представить себе и то, что вообще все искусства объединяются этой уникальной системой, включая и музыку, которая до V в. была безраздельно связана со словом и даже в чисто инструментальном варианте отличалась поразительной определенностью ладового этоса [184] .
Более ясное расхождение между основным пластическим принципом и «графически»-плоскостным, помимо того скрытого и потенциального, какой мог существовать между телом и лицом в статуе (между осмыслением того и другого), сказывается, кажется, в более прикладных видах искусства. Так — между вещественной и чувственной полнотой и завершенностью статуи, где сакральное и жизнеподобное объединены и слиты в идеальном теле (была ли когда-либо на деле достигнута «классическая гармония» — другой вопрос и дело взгляда) и скупостью, и сокращенностью мелкого рельефного изображения. Резные камни, трудоемкие в работе и требовавшие совершенного мастерства, тяготеют, при всей удивительной во многих образцах деталировке, к сжатости, к лаконичности черт, к иероглифичности своего рода; соотношения объемного и плоскостного здесь используются и обыгрываются. И если в сравнении с плоским иероглифом такое изображение весьма пространственно, объемно, жизненно, то по сравнению с большой скульптурой оно лишено свободы и зажато в плоскостях и поверхностях камня. Искусство драгоценной интимности близко к тому, чтобы вообще выступать как знак знака — иногда резные камни воспроизводили монументальные произведения искусства (о которых и известно иной раз только по ним). Если статуя — это реальное присутствие изображенного, а рельеф — напоминание о нем, знак того, кто отсутствует, то резной камень — это напоминание о таком знаке или напоминание о некотором важном смысле, а в последнем случае вполне естественно до крайности сокращаться и приобретать уже прямую графическую плоскостность.
Монета, технологически несовершенная, выявляет ход развития: не чуждая глубин видения и знания, допускающая и символы [185] , монета с отчетливостью проявляет особенности графического. Рельеф уплощается и помещается в круг или иную форму: замкнутость определена не целостностью тела, а положена извне, положена самим принципом «печати» и оттиска и утверждена массовостью «тиража». Монета — это не «свое» бытие, не «что», а «то, на чем»: символ, «лицо», буквы — то, что превратит кусок вещества в нечто иное. И хотя это превращаемое «что» может обрести художественную ценность, рельеф, отпечаток знака знака, тяготеет к тому, чтобы скрадываться в своей графичности, функциональной «знаковости».
В противоположность этой — неминуемой (как тенденция) — графичности классическая скульптура греков словно изваяна безошибочной пластической природой, которая органически взрастила вот это тело, доведя его до возможного совершенства. Внутреннее и внешнее в таком изображении — как и лицо и тело — находятся в состоянии безразличного взаимосогласия. Безразличного — недраматичного, бесконфликтного. Взаимосогласия — если только тело не превышает своей выразительностью лицо.
В такой скульптуре все внешнее, и, значит, прежде всего лицо, есть выражение внутреннего, а отнюдь, скажем, не оттиск печати (нечто налагаемое извне). Однако это внутреннее, найдя свое выражение в чертах лица и очертаниях фигуры, какими только могут и должны быть эти черты и эти очертания, обретает в них свое успокоение: внутреннее слилось с внешним как выросшее вместе с ним. Выражается не внутреннее как движение, как мгновение существования (как впоследствии в знаменитой группе Лаокоона), а как слившаяся с внешним сущность, бытие.
Гегелю это небезосновательно представлялось так: «Изменчивое и случайное, что присуще эмпирической индивидуальности, правда, погашено в возвышенных образах богов, но зато им недостает реальной, для себя сущей субъективности в ведении и волении самих себя. <…> Величайшие творения скульптуры лишены взгляда, их внутреннее не выглядывает из них наружу как знающая себя самоуглубленность с той духовной сосредоточенностью, какую выявляет глаз. Свет души лежит вполне за пределами их сферы и принадлежит зрителю, который не способен заглянуть внутрь души этих образов, оказаться с ними с глазу на глаз» [186] .
Внутреннее в статуе бога целиком перешло во внешнее, заведомо слившись с напором роста; внутреннее как таковое вообще не выражено. Но если перевес внутреннего (как в позднейшем, европейском искусстве) лишает фигуру и лицо сущностной необходимости, обрекает их на «случайность» своего существования и превращает в поле активного, самого энергичного выявления (выявления внутреннего), то здесь неминуем разрыв лица и тела — собственно, и остается только лицо с его мимикой, с его говорящими глазами. Лицо — как бы почти открытое, обнаженное внутреннее. Лицо греческой статуи — ни закрыто, ни открыто; оно пребывает в постоянстве своего бытия. Нет такой души, которая не была бы здесь телом, но именно поэтому нельзя строго говорить о гармонии внутреннего и внешнего, а лучше было бы говорить об их неразделенности, исторически достигнутой в тот момент, когда отвлеченно-знаковое в художественном мышлении греков максимально соединилось с интуицией природно-телесного и было максимально преодолено в ней. Однако если телесный облик выносит наружу бытие в его постоянстве, — бытие бога или героя, то здесь вновь возникает, чуть намечаясь, дуализм лица/тела. Едва преодоленный в круглой идеально гармоничной фигуре, он возникает оттого, что голова, обретшая свое жизнеподобное тело, сильнее задевается тенденцией к бытийно-общему. Лицо тяготеет тогда к тому, чтобы быть «своим» типом. Между «типами», с какой бы естественной жизнеподобностью они ни создавались, естественно, не может быть переходов (потому что каждый тип передает свое бытие, свой «образ» бытия, и, разумеется, тоже без всяких нюансов случайного и без всякой психологизации). А тогда классическая скульптура — это живая типология; она относится к типам бытия, воссоздаваемых идейно-пластично и плотски-природно.
Однако в таком случае лицо, как бы ни врастало оно в свое столь жизнеподобное в своей идеальности тело, все равно оказывается близко от маски. И действительно, выражающее тип бытия лицо статуи уже в самой жизни очень близко к маске — лицо скульптурного бога и маска театрального бога. «…Маска — это смысловой предел непрерывно выявляющегося лица. <…> Маска дает облик лица овеществленно, объективно, статуарно, как полный набор и специфическое чередование выпуклостей и впадин в единожды напечатленном и навечно застывшем отпечатке печати (character!)» [187] .
Если бытийная типизация лица стремится «оторвать» лицо как маску от тела, то в дальнейшем развитии искусство могло пойти либо путем новой схематизации (потому что архаическая схематизация только что была, насколько возможно, преодолена), либо путем размывания маски, ее неподвижности, путем введения ради этого психологизма, движения и т. п., и скульптура пошла этим последним путем.
Гегель, говоря о греческом театре, рассуждал так: «Черты лица составляли неизменный скульптурный облик, пластика которого точно так же не вбирала в себя многоподвижное выражение частных душевных настроений, как и действующие характеры, которые в своей драматической борьбе представляли твердый всеобщий пафос, — отнюдь не углубляя субстанцию этого пафоса до проникновенности современной души (Gemьths) и не расширяя ее до детальности (Besonderheit) нынешних драматических характеров»[188].
На театре маска бога или героя продолжается в теле и фигуре актера, и в таком лицедействе дуализм лица/тела вполне явен, хотя он и не обсуждается. Пластика спектакля с его скульптурными образами-масками служит как бы средним звеном между круглой скульптурой и сокращенной пластикой рельефов малых форм, служит таким звеном по смыслу. Тем более театр соединяет совсем разнородное и по времени — архаический схематизм и совершенную телесную воплощенность образов. То графически-плоскостное и схематическое, что в классическом искусстве утопает в обилии идейно-организуемой плоти, театром все же сохраняется, притом в самом центре культурной жизни V в.