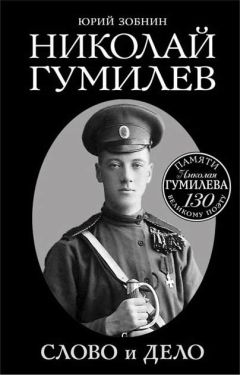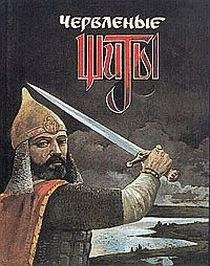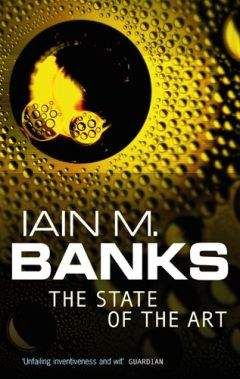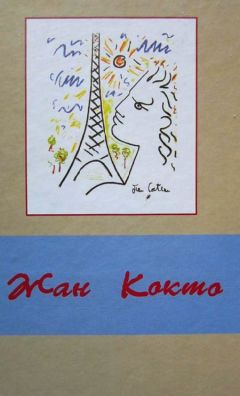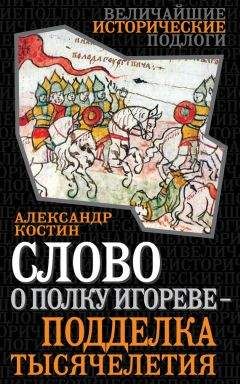Наталия Злыднева - Изображение и слово в риторике русской культуры ХХ века
Даль как идеальное и близкое как телесное – вполне обычны, ожидаемы, стереотипны. Нетривиальным вместе с тем является у Платонова весьма частое сближение мотивов дальнее и тело – как семантически, так и в формальном соположении лексем в рамках единой синтагмы, при этом акцентируется низовое и женское: «…по той степи идут люди, ищущие своего существования вдалеке; дорога им дальняя, а из родного дома они ничего, кроме своего тела, не берут». Ч 190; «По вечерам прочие водили женщин на далекие места реки и там мыли их». Ч 365. На этом основано как противопоставление далекого близкому, так и их тождество: «Хотя в Чевенгуре было тепло и пахло товарищеским духом, Копенкин <…> чувствовал себя печальным и сердце его тянуло ехать куда-то дальше». Ч 192; «Три человека отправились вдаль – среди теплоты чевенгурских строений». Ч 209; «…небось тогда я тебе дальней была, что в больное нутрё поближе лез!» Ч 298. Идеальная сущность дальнего в телесном коде реализуется как сексуальное начало: «Машинист понес в даль отвлеченных слов о каких-то женщинах <…> он знал, что женщин можно любить особо и издали» Ч 29; «Ты хамка, – сказал Карпий Агапке. – Я люблю женщин дальних». Ч 29 8. Телу и сексуальности эквивалентна по Платонову и трава – это стихийное, земное, плотское творение, природа, которая тоже причастна дальнему (даль+тело+трава): «Прошка уходил все дальше, и все жалостней становилось его мелкое тело в окружении улегшейся огромной природы». Ч 53; «Здесь у вас хорошо – тихо, отовсюду далеко, везде трава растет». Ч 300.
Помимо эротической темы, близость дальнего прослеживается в соположении мотивов близости и коммунизма: «Чепурный безмолвно наблюдал солнце, степь и Чевенгур и ощущал волнение близкого коммунизма». Ч 227; «Наверное, уже весь мир, вся буржуазная стихия знала, что в Чевенгуре появился коммунизм, и теперь тем более окружающая опасность близка». Ч 243; «У вас в Чевенгуре весь коммунизм сейчас в темном месте – близ бабы и мальчугана». Ч 287. Подобное соположение, учитывая коннотированность коммунизма (и Ленина как его эквивалента) одновременно и ближним, и дальним («…есть далекое тайное место, где-то близ Москвы или на Валдайских горах, <…> называемое Кремлем, там сидит Ленин при лампе, думает, не спит и пишет». Ч 243), выступает как оксюморон, как наложение друг на друга частей оппозиции.
В широкий разброс между близким и далеким включены конечные точки человеческого бытия – жизнь и смерть. Живые и мертвые тела встречаются, обозначивая характерное для мирочувствования Андрея Платонова истоньшение существования инверсивным образом: в романе Чевенгур живое чаще всего парадоксально выступает как дальнее, а мертвое как близкое: «Пусть отец лежит мертвый и ничего не говорит, но он всегда будет лежать близко…» Ч 36; «Чепурный нисколько не знал вначале, после погребения буржуазии, как жить для счастья, и он уходил для сосредоточенности в дальние луга, чтобы там, в живой траве и одиночестве, предчувствовать коммунизм». Ч 225; «У Дванова заболел живот (живот у Платонова часто несет в себе семантику жизни. – Н.З.), с ним всегда это повторялось, когда он думал о дальних, недостижимых краях» Ч 306.
Мертвое/живое соотнесено с близким/далеким и в плане существенной для мотивики Платонова антиномией память/забытье. Нарушая сложившийся в обыденном сознании стереотип дальнее=забытье, писатель связывает дальнее именно с длящейся памятью: «Иногда он поглядывал на Соню и еще больше любил Розу Люксембург: у обоих была чернота волос и жалостность в теле; это Копенкин видел, и его любовь шла дальше по дороге воспоминаний». Ч 100; «Ему смутно казалось, что это сделано для того, чтобы дальняя могила Розы Люксембург имела дерево, холм и вечную память». Ч 210. Память эквивалентна зрению, потому далекое видится яснее: «Карчук же подарил Кирею сербиновские очки. – Будешь видеть дальше – больше, – сказал он Кирею». Ч 344 (обыгрывается газетное клише: политическая дальновидность). Близкость коммунистической дали и далекость близкой женщины оказываются в одной парадоксальной сцепке наподобие антиномии беспамятная память.
Амбивалентность коммунистического блага в романе, соответствующая свойственной Платонову амбивалентности авторской позиции, ее устранености, описывается парадоксом близкого далека как нельзя более точным по отношению к реалиям официальной идеологии образом. Противоречие между плотским и идеальным, живым и мертвым фокусируется вокруг телесного, что является данью характерным для 20-х годов баталиям вокруг проблем пола[235], интересу к генетическим экспериментам. Вместе с тем черты антиномии приближающейся сталинской эпохи в парадоксе близкого далекого предугаданы здесь с большой точностью. Близкое далекое в «Чевенгуре» – это не только страстная устремленность в коммунистическое завтра со всем драматизмом обреченности этого стремления, это еще и полнота устройства мифологического Космоса, где встречаются противоположности. При этом далью описывается у Платонова не пространство, а время: даль – это предмет созерцания, в том числе ментального (=память), между тем как вблизи ничего не видно и мало помнится.
Выявленное в мотивике Платонова наложение полюсов, разрушение семантических стереотипов, горизонта ожидания в связи с нетривиальными мотивными «валентностями» близкого и далекого обнаруживает прямое соответствие с дистопической мотивикой Тышлера, проявившейся в противопоставлении удаленных планов композиции, тем самым не только указывая на инвариантные особенности пространственного «ландшафта» эпохи, но и на специфику ландшафта ментального: взаимные инверсии и наложения близкого далека отражают высокую напряженность переходной эпохи, года «великого перелома» на пути к (не)реализации утопии, этапа семиотической трансформации общества. Реализованная в сфере пространства, риторика эпохи описывает парадоксы времени.
Б) Платонов и Петров-Водкин: мотив двоичности
Среди разнообразных параллелей, которые возникают между прозой Платонова и живописью конца 20-х – начала 30-х годов, значимым представляется концепт числа два. Предмет настоящей подглавки – это интерпретация мотива двоичности в прозе Андрея Платонова и живописи Кузьмы Петрова-Водкина в рамках индивидуальных поэтических систем и его проекции в социокультурном пространстве[236].
Илл. 136. Б. Ермолаев. Красно флотцы. Холст, масло. ГТГ.
Весьма примечательно, что в русской культуре 20-х годов наблюдается резкое усиление – по частотности и значимости в поэтике – мотива числа два. Примеров двоичности в литературной топике довольно много – это и Б. Пильняк («Два брата»), и Ю. Олеша с его темой зеркальной парности персонажей («Зависть»), и М. Зощенко, использовавший двоичность в композиционных схемах своих рассказов. Принцип двойственности особенно глубоко укоренен в прозе Андрея Платонова, что проявляется на разных уровнях организации текста, и на это указывалось многими исследователями[237]. Двойственностью (=темой двойничества, маркированной парности и т. п.) Платонов обязан поздним романтикам и символизму, внутреннее родство писателя с которыми во многих отношениях очевидно. Очевиден также слой собственно философский и его след в традиции – дуализм мира по Платону, восходящий к архаическому культу близнецов. Нас, однако, интересует не литературный генезис этого явления и не его историко-философские импликации, а образуемые им интермедиальные переклички, ибо последние проливают свет на риторику эпохи. Двойственность в прозе Платонова интересна также с точки зрения корреляции поэтики мастера с внетекстовой реальностью – «языком» эпохи.
Показательно, что и советская живопись 20-х – начала 30-х годов также отмечена ростом количества парных изображений и двоичности композиций в целом. Назовем, к примеру, полотна Б. Ермолаева «Краснофлотцы» (1934, ГТГ), Ф. Богородского «Снимаются у фотографа» (1932, ГТГ) [илл. 136, 137], П. Осолодского «Литейщики» (1930-е, ГТГ), А. Лен тулова «Женщины» (1919, ГТГ), офорт П. Кондратьева «Колхозницы, убирающие лен» (1920-е, ГТГ). Для конца 20-х годов типично и распространенное в классической традиции двойное изображение, полученное как результат зеркального отражения: И. Машков «Дама в голубом» (1927, ГТГ), А. Самохвалов «После бани» (1927, ГТГ). Двоятся и лики на полотне П. Филонова «Налетчик» (1926–1928 [илл. 138]) и в его более позднем произведении «Лики» (1940 [илл. 139]). Распространенность мотива двоичности в 20–30-е годы побуждает сравнивать по этому признаку литературу и живопись.