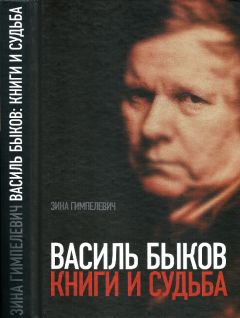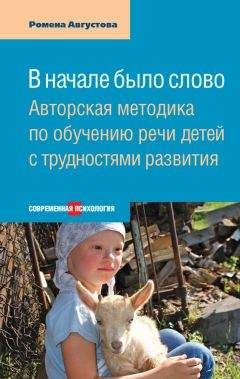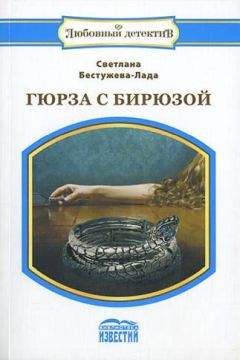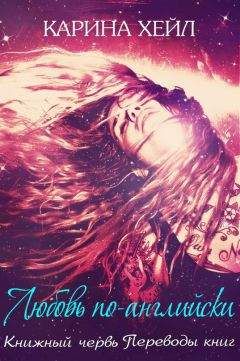Игорь Лебедев - Шут и Иов
А где же синий фрак? Писатели, знавшие, что Гоголь похоронен во фраке, были информированы об исчезновении головы, что и рассказали Аросеву; присутствовавший же Лидин увидел, что на теле Гоголя — сюртук табачного цвета. Безусловно, Гоголь был похоронен дважды!
На первый взгляд, можно сделать вывод о верности версии о летаргии, ведь сам писатель просил не хоронить его раньше, чем проявятся явные следы разложения. Но, хотя современники Гоголя отмечали его уникальную скрытность, время начинает открывать тайну его жизни, творчества и смерти. Сам Гоголь нередко признавал, что у него особенная натура, на которую влияния действуют не так, как на всех, и что её нельзя мерить на одну мерку со всеми; причём относил это к материальному устройству своего тела. Из описываемых им припадков врачи могли заключить лишь то, что он не страдает какой-либо конкретной болезнью — припадки появлялись у него внезапно и так же внезапно исчезали. Его близкий друг Языков в письме к брату писал, что «Гоголь рассказывал ему об особом устройстве своей головы, о странностях своей болезни». Вообще у Гоголя чрезвычайно много странного — иногда даже я не понимаю его — чудного.
Обращали внимание на то, что он дома по нескольку часов читал какие-то книги в кожаных переплётах с застёжками, которые тщательно прятал. Он любил слушать рассказы о видениях, обо всём сверхъестественном и любил спрашивать подробности, как бы что-то сравнивая. Д. С. Мережковский в свое работе «Гоголь и черт» приводит следующие поражающие свое откровенностью слова Гоголя: «Клянусь, бывают такие положения, что их можно уподобить только положению того человека, который находится в летаргическом сне, который видит сам, как его погребают живого, и не может даже пошевелить пальцем и подать знак, что он жив».
И в письме к Плетнёву Гоголь говорит о том, что «Бог воздвигнет его дух на всяком месте и в каком бы то ни было состоянии тела: лежа, сидя или даже не двигая руками» (!?). А вот ныне уже всем известные свидетельства «вернувшихся к жизни после смерти»: «Я почувствовал, словно я плыву в воздухе, я посмотрел назад и увидел самого себя на кровати внизу, и у меня не было страха».
А у Гоголя страх был — понятие «летаргия», которым он оперирует, лишь слово. Он пытался как-то выразить состояние, получившее ныне весьма чёткое научное определение — декорпорация (отделение от тела). Описание «бесовски сладкого, томительно-страшного» полета проходит через все творчество писателя — «Вий», «Вечера на хуторе близ Диканьки». А кто такой гоголевский Вий? Сам Гоголь объяснял это так: «Так называется у малороссиян начальник гномов. Все это — народное придание, и не хотел ни в чём изменить его и рассказал почти в такой же простоте, как слышал», но простота Гоголя слишком непроста; дело в том, что ни в украинском, ни в русском фольклоре даже двойников гоголевскому Вию нет. Это давно уже обнаружили исследователи, и они ввели идею выдуманного Гоголем неологизма от украинского слова «вия» — ресница. Но Вий у Гоголя появляется лишь в последних строках, и такое объяснение ничего не даёт. А вот лингвисты неожиданно набрели на верный путь.
Они обнаружили, что в Ригведе и Авесте, священных книгах индоиранцев, бог-демон Вауи играет огромную роль, а, выступая и как божество парения, ветра, полёта, и как божество смерти. В художественной форме в «Вие» Гоголь рассказывает о себе в лице философа Фомы Брута. Р. Моуди (автор известной книги «Жизнь после смерти») утверждает, что «человеческая душа выходит из двух точек: либо из верхней части головы („странное устройство головы у Гоголя“), либо из области солнечного сплетения». Хорошо известны разговоры Гоголя, что у него «внутри всё расстроено», и даже «желудок вверх ногами». Исследователями НДЕ (так обозначается феномен состояния близкого к смерти, в английской аббревиатуре) единодушно отмечают, что после того как душа проносится через темный туннель, она встречается со «светящимися существами». Психиатр Патрик Дьюаврии сделал новое открытие: оказывается, люди могут испытывать НДЕ во время отдыха, в полусне и т. д. Он замечает также, что бывают случаи негативного протекания НДЕ, когда человек испытывает кошмарные видения, и путешествие «туда» становится для него мучением, Д. С. Мережковский удивительно точно угадал, что «Гоголь и не жил вовсе, а всю жизнь умирал». Масса фактов говорит о том, что люди «вне тела» чувствуют приближение границы, откуда возврата уже не будет, и возвращаются. Круг, что очертил себе Фома Брут, это и есть та граница, через которую страшился переступить Гоголь, периодически нисходя в «шеол» (так называлось то пространство, где обитало «второе тело»). Вий — это манифест послесмертного парения к черте и ужас её.
Бердяев проницательно замечал: «Гоголь — единственный русский писатель, в котором было чувство магизма, он художественно передаёт действие магических сил. „Страшная месть“ насыщена таким магизмом. Но в более прикрытых формах этот магизм и в „Мёртвых душах“ и в „Ревизоре“, у Гоголя было совершенно исключительное по силе чувство зла».
Гоголь балансировал на грани. В письме к Языкову он прямо пишет: «Уходить в себя мы можем посреди всех препятствий и волнений. Истину я узнал, но пребывать неотлучно в ней самому не нашёл средств». Известны случаи о людях, умевших сознательно достигать декорпорации и путешествовать в шеоле, причём в остальное время бывших совершенно здоровыми.
Можно с большой долей истины сказать, что случай с Гоголем был более сложный. Как тут не вспомнить известную зябкость писателя, который при 18° в комнате никак не мог согреться. Признаки болезни, на которую он жаловался в последние годы, состояли в охлаждении конечностей (он даже ноги засовывал прямо в печку). Замечено, что там, где появляются «привидения» — как бы нечто среднее между физическим и «тонким телом», которые в силу ряда причин не может окончательно перейти черту, и может поглощать энергию из нашего пространства, — то состояние Гоголя можно охарактеризовать, как дрожание и временное рассогласование «тел» и перехода их в разные фазы.
Об одних фазах он ещё старался сказать — «сомнабулическое состояние», «как летаргический сон», а о других молчал, и лишь описывал их в художественной форме. Мережковский прямо заявлял, что Гоголь пророчествовал о «бестелесных видениях», «загробных страшилищах» и о «прикреплении к земле и телу». В «Майских ночах» Гоголь пишет о прозрачных телах русалок: «тела их были, как будто изваяны из прозрачных облаков и будто светились насквозь при серебристом месяце. Тело одной русалки не так светилось, как у прочих: внутри неё виднелось что-то чёрное».
А вот рассказ доктора С.: «В следующее мгновение я почувствовал, что отрываюсь от своего тела и начинаю подниматься в верхний угол комнаты. Я хотела вернуться в своё тело, но тщетно! Вот я оказалась перед зеркалом, что висело над камином. Смотрела в него и видела белую, словно сотканную из тумана „фигуру“».
Доктор С. не вошла тогда в «шеол», но, совместив её рассказ с учением Агни-йога, которое учит, что «тонкий мир есть самосветящийся мир, и светоносность каждого существа зависит там от достигнутой степени духовного совершенства», мы получим описание буквально виденного Гоголем. Бердяев почувствовал, что «Гоголь видел уже тех чудовищ, которые позже художественно увидел Пикассо. Но Гоголь ввёл в обман, так как прикрыл смехом своё демоническое созерцание».
Американский православный священник С. Роуз, проанализировав проблему НДЕ с точки зрения православия, обнаружил, что многие «святые угодники Божьи» описывали такие «путешествия». А у католических теологов даже существовал афоризм: «Тот, кто умирает до того, как умрёт, не умирает, умирая».
Так что теперь по-другому понимаются слова Гоголя: «Цель христианства есть всемирное просвещение — просвещение, не значит научить или наставить, или образовать, или даже осветить, но всего насквозь высветить человека во всех его силах, а не в одном уме, пронести всю природу его сквозь какой-то очистительный огонь». Высветить человека в «шеоле» — буквально!
Но Гоголь ходил по границе. «Смертельное манит», нисхождения в «шеол» удлинялись. Ведь об этом его известные слова: «Страшусь, видя, как хожу опасно. Участь моя будет страшней участи всех прочих людей». «Уйти» слишком далеко, надолго, и быть похороненным заживо? Как такое выдержать? В конце своих «Избранных мест…» он просто закричал — «Спасите меня!». Многие годы учёные удивлялись, что «реакционные» «Избранные места из переписки с друзьями», ратующие за основы, неожиданно, почти на целую треть (!) были запрещены цензурой! Гоголь пытался организовать общественное мнение придворных кругов, требуя (!) от князя Вяземского, графа Вильегорского и других близких к царю выступить в его защиту. Но тщетно.
Чего же так опасалась высшая власть? На поверхности: контакты с дворцом Гоголя даже близко не приближались к пушкинским, а вот глубже — после смерти Гоголя никаких бумаг не нашли, и лишь гораздо позже исследователи обнаружили любопытные документы, из которых видно личное участие в паломничестве Гоголя в Иерусалим царя. Ещё в те лета Гоголь писал матери, что «во сне и наяву мне грезится служба государству». В конце жизни — то же: «мысль о службе у меня никогда не пропадала, — я не совращусь со своего пути…» О каком пути-службе он говорит в конце жизни?