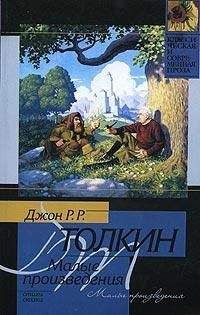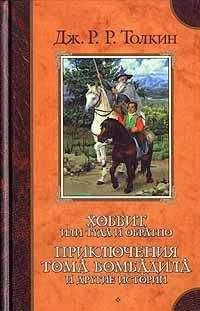Джон Толкин - Приключения Тома Бомбадила и другие истории
Но в Царстве Божием великое не подавляет малое. Спасенный человек — по-прежнему человек. Сказка и Фантазия по-прежнему существуют и должны существовать. Благовествование не искоренило, а освятило легенды, в особенности счастливую концовку. Христианин должен, как и раньше, трудиться духом и телом, страдать, надеяться и умереть. Но теперь он может осознать, что все его способности и стремления существуют ради святой цели. Милость, которой он удостоен, столь велика, что он не без оснований осмеливается предположить: его Фантазия действительно помогает расцвету и многократному обогащению мироздания. Все сказки могут воплотиться в жизнь. Но в конце, пройдя очищение, они станут такими же похожими и непохожими на формы, которые мы им придаем, как Человек, спасенный во веки веков, будет похож и непохож на падшее существо, знакомое нам.
Примечания
А
В такие истории «чудеса» включаются и используются в сатирических целях. Мотив сновидения в них — не просто прием для оформления завязки и развязки: он постоянно ощущается и в самом действии. Все это вполне может нравиться детям, если им не мешать. Но если «Алиса» представлена им как волшебная сказка (а мне и многим-многим другим детям ее представили именно так), мотив сновидения вызывает внутренний протест. А вот в «Ветре в ивах» Кеннета Грэма нет даже намека на сон. Сказка начинается так: «Крот учинил весеннюю уборку в своем домике и все утро трудился не покладая рук»,— и этот верно выбранный тон сохраняется до конца повести. Тем более странно, что А. А. Милн, восторженный почитатель этой прекрасной книги, предпослал своему переложению «Ветра в ивах» для сцены «игрушечный» пролог, где ребенок беседует по телефону с нарциссом. Впрочем, может, это не так уж и странно, поскольку толковый почитатель, в отличие от восторженного, ни за что не стал бы переделывать повесть для сцены. Перенести в пьесу возможно лишь самые простые элементы книги — то, что в ней есть от пантомимы и сатирической сказки о животных. Правда, пьеса (конечно, не на уровне высокой драматургии) получилась довольно сносная, особенно для тех, кто книгу не читал. Но дети, которых я водил на «Мистера Жаба из Жабьей Усадьбы» (так называется переложение Милна), запомнили главным образом тошноту, вызванную прологом. В остальном они предпочитали полагаться на воспоминания о книге.
Б
Несомненно, эти элементы и появились-то в сказках, как правило, именно из-за своей повествовательной ценности, даже если в те дни их можно было наблюдать и в жизни. Допустим, я написал рассказ, в котором некоего человека казнят через повешение. Если рассказ не будет забыт — а это, кстати, уже само по себе означает, что он обладает какой-то общезначимой ценностью, важен не только для определенного места и времени, — так вот, если рассказ не будет забыт, через несколько столетий можно будет предполагать, что он написан во времена, когда отправление правосудия действительно включало в себя казнь через повешение. Конечно, это будет только предположение: сделать безусловный вывод на основании одного рассказа невозможно. Чтобы избавиться от сомнений, будущему исследователю потребуется точная информация, когда практиковалось повешение и когда жил автор. Ведь я мог заимствовать этот мотив из другой эпохи, другой страны или другого рассказа; я, наконец, мог его просто придумать. Но даже если я действительно был современником повешения, сцена казни в рассказе, попавшем в руки грядущего критика, будет присутствовать лишь при соблюдении двух условий: 1) я должен был почувствовать, что сцена повешения внесет в рассказ ощущение трагизма или ужаса, и 2) те, кто будет пересказывать его после меня, тоже должны ощущать трагизм и ужас этого эпизода, чтобы не выкинуть его из рассказа. Может быть, сама временна́я дистанция, отделяющая людей будущего от этого древнего и чуждого обычая, заострит и трагизм, и ужас. Но для этого нужно иметь, что заострять, иначе даже эльфийский оселок (древность и чуждость) окажется бесполезным. Поэтому, скажем, нет ничего более бессмысленного, чем спрашивать об Ифигении, дочери Агамемнона: приносились ли еще человеческие жертвы, когда зародилась легенда о ее жертвоприношении в Авлиде? Ответ на этот вопрос ничего не решает.
В начале этого примечания я оговариваюсь: «Как правило»,— так как, вполне возможно, то, что мы воспринимаем сейчас как рассказ, историю, сказку, когда-то создавалось с совершенно иной целью: служить хроникой события или ритуала. Именно хроникой в точном смысле слова, потому что, например, рассказ, созданный для объяснения того или иного ритуала (полагают, что их немало), — это все-таки прежде всего рассказ. Он обладает повествовательной структурой и живет дольше ритуала именно потому, что представляет ценность как повествование. Если же говорить о хронике, то в ней могут встречаться детали, которые сейчас привлекают внимание своей необычностью, но когда-то были такими привычными и повседневными, что попадали в текст как бы сами собой. Так мы говорим о человеке, что он «приподнял шляпу» или «поспел на поезд». Но такие «привычные» детали ненадолго переживают изменения повседневного поведения — во всяком случае, в период устного бытования историй. С другой стороны, при письменном бытовании (когда, кстати, и повседневное поведение изменяется быстрее) история может достаточно долго оставаться неизменной, чтобы даже «привычные» детали в ней стали восприниматься как странные и причудливые и тем самым приобрели повествовательную ценность. Такое воздействие на читателя сейчас оказывают многие книги Диккенса. Вы можете открыть его роман, который впервые был куплен и прочитан, когда он в точности соответствовал повседневной жизни, — и убедиться, что «привычные» детали в нем так же далеки от современности, как елизаветинская эпоха. Но все это относится уже к нашему времени. Материалы, которые изучают антропологи и фольклористы, сформировались при других условиях. Эти ученые имеют дело с бесписьменной традицией и поэтому тем более должны понимать, что их материалы создавались прежде всего как рассказы и дошли до наших дней именно потому, что обладали повествовательной ценностью. «Король-лягушонок» — не символ веры и не учебник по тотемизму, а рассказ о необычайном с отчетливой моралью.
В
Насколько мне известно, дети с рано проявившейся тягой к писательству вовсе не отдают волшебным сказкам какого-то предпочтения, если им известны и другие литературные жанры. Скажу больше: сказки получаются у них хуже всего. Это трудный жанр. К чему пишущие дети особенно склонны, так это к сказкам о животных, которые взрослые часто путают с волшебными сказками. Лучшие из детских рассказов, которые мне доводилось читать, либо были «реалистическими» (во всяком случае, таково было намерение автора), либо повествовали о зверях и птицах — по существу, о зооморфных людях, обычных персонажах басни. По-моему, этот жанр дети так часто используют потому, что он позволяет рассказывать о хорошо знакомых домашних событиях и разговорах, то есть опять-таки склоняется к «реализму». Однако сама жанровая форма сказки о животных или басни, как правило, подсказана или навязана взрослыми. Любопытно, что она сейчас очень часто встречается и в хорошей, и в плохой «литературе для детей». Должно быть, взрослым кажется, что басни хорошо согласуются с «естественной историей» — полунаучными книжками о зверях и птицах, которые тоже считаются подходящей диетой для детей. А отряд поддержки составляют медведи и кролики, совсем, похоже, изгнавшие из детской обычных кукол. Дети ведь часто слагают целые саги, длинные и сложные, о своих куклах. Раз кукла — медведь, то и в саге будут действовать медведи, но говорящие по-человечьи.
Г
С зоологией и палеонтологией («для детей») я познакомился в то же время, что и с Феерией. Мне показали картинки с изображением современных зверей и когда-то живших (как мне объяснили) доисторических животных. Доисторические мне понравились больше. Они, по крайней мере, жили очень давно. Кроме того, в любой гипотезе (если для нее не хватает доказательств) присутствует хотя бы слабый отблеск Фантазии. Но вот когда мне стали объяснять, что эти существа и есть «драконы», мне это оказалось совсем не по нраву. До сих пор чувствую детское раздражение, вспоминая, как меня поучали родственники (или подаренные ими книжки): «Снежинки — алмазы фей», «Снежинки прекраснее алмазов фей», «Чудеса океанских глубин превосходят чудеса Страны Фей» и т. д. Дети прекрасно чувствуют разницу между нашим миром и Феерией, хотя и не могут выразить ее в словах. От взрослых они ждут, чтобы те хотя бы признали эту разницу, раз уж не могут ее объяснить, а взрослые ее начисто отрицают или предпочитают не замечать. Я вовсе не был слеп к красоте Реальных Вещей, но не хотел, чтобы меня сбивали с толку, смешивая ее с чудесной природой вещей Другого Мира. Мне было интересно узнавать новое о природе, — пожалуй, даже интереснее, чем читать многие волшебные сказки. Но мне не хотелось, чтобы у меня обманом отобрали Феерию и завлекли меня в Науку люди, которые, похоже, считали, что некий первородный грех заставляет меня предпочитать сказки, в то время как некая новая религия требует, чтобы меня принудили любить науку. Конечно, природу можно изучать всю жизнь (а тем, кому дарована вечная жизнь — всю вечность). Но часть человеческого сознания не является «природной», а потому и не обязана природу изучать — и, кстати, изучение природы ее, эту часть, абсолютно не удовлетворяет.