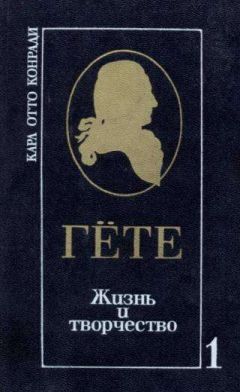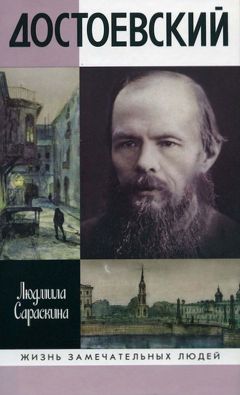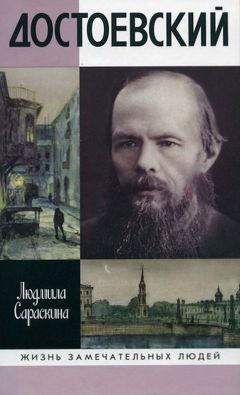Ирина Сироткина - Классики и психиатры
О психологии самого Пушкина Лопатин ничего не сказал, хотя вполне мог бы это сделать — в конце века психологический анализ великих людей вошел в моду. Причиной профессиональной скромности Лопатина, по-видимому, было то, что психологический анализ гениев в тогдашней литературе часто сводился к психиатрическому. Как правило, он предпринимался с целью еще раз подтвердить теорию Ломброзо о родстве гениальности и помешательства. Составленный Ломброзо список душевнобольных гениев включал Сократа, Магомета, Савонаролу, Руссо, Наполеона, Шумана, из великих русских — Гоголя13. Благодаря введенным Ломброзо категориям, как бы промежуточным между здоровьем и болезнью, этот список мог быть сколь угодно расширен. Пушкин по роду своей деятельности вполне мог в нем оказаться, — но в 1899 году этого не произошло. Парадоксальным образом российские психиатры посчитали случай Пушкина не подтверждением теории Ломброзо, а, напротив, опровержением идеи о родстве гения и болезни.
Открыла эту дискуссию статья «Пушкин как идеал душевного здоровья» влиятельного психиатра В.Ф. Чижа14. В конце XIX века — в то время, когда работал Чиж, — в общепринятые нормы душевного здоровья входила норма «морального оптимизма», т. е. требование смотреть на жизнь позитивно и действовать соответствующим образом. Хорошим в моральном смысле человеком считался тот, кто испытывает положительные чувства восхищения, любви и надежды, а плохим — отрицательные эмоции — презрение, ненависть, разочарование и пессимизм. Современникам казалось, что наука и медицина вполне подтверждают те понятия о болезни и здоровье, которые были закреплены в нормах повседневной жизни. Разделяя веру в необходимость «морального оптимизма» со многими своими современниками, Чарльз Дарвин назвал моральное чувство последним и самым драгоценным приобретением эволюции, самым важным отличием человека от животных15. Его соотечественник хирург Дж. Х. Джексон обнаружил, что при болезни первыми нарушаются наиболее молодые образования мозга, а наиболее древние структуры являются самыми устойчивыми. Основываясь на этих наблюдениях, французский психолог Теодюль Рибо сформулировал так называемый «закон эволюции психических функций», согласно которому высшие функции — интеллект и нравственность, будучи высшими достижениями человеческого развития, при болезни или под действием наркотиков нарушаются первыми. Как пишет английский историк науки Роджер Смит, «высшее и низшее были в одно и то же время понятиями морали и физиологии. Они служили связующим звеном между старой психологией и христианскими идеями о контроле мозга над телом, с одной стороны, и новыми физиологическими идеями о контроле мозговых полушарий над нервной системой, с другой»16.
Чиж, по его словам, убедился в том же на собственном опыте, обнаружив в эксперименте на самом себе, «что первым под влиянием наркотиков угасает нравственное чувство». Из этого он заключил: для того чтобы быть нравственным, человек должен обладать абсолютным здоровьем. Обратное тоже верно: «чем выше, чем совершеннее психическая организация», тем выше нравственность, «тем более человек способен любить человечество»17. Чиж считал душевнобольных с их несовершенной психической организацией безнравственными, так сказать, по природе: «Больной, ненормальный психически или не любит ни истины, ни добра, ни красоты, или неспособен понимать их… Психопат не может гармонически стремиться к истинному, нравственному и красивому; чаще всего у них нет любви и понимания добра»18. На одном краю спектра Чиж поместил душевнобольного с его якобы ущербной организацией, на другом — гармоничную личность с развитой в совершенстве способностью понимать и любить добро, истину и красоту.
Эти взгляды и легли в основу оценки им Пушкина. Поэт казался Чижу чуть ли не единственным гением с уравновешенной психикой. Психиатр тщательно отмечал недостатки тех писателей, чье душевное здоровье было когда-либо подвергнуто сомнению, — Гоголя, Альфреда де Мюссе, Эдгара По, Бодлера, Верлена, Флобера, Достоевского. Двое последних, «как эпилептики, особенно увлекались всем мистическим и мало, — конечно, по отношению к их великому уму, — понимали действительность». Напротив, в Пушкине Чиж не мог найти никакого ущерба и должен был поэтому констатировать его полное душевное здоровье. Причем главным его критерием, согласно психиатру, служила именно «безупречность» Пушкина, а не его художественный гений, поскольку гений был скомпрометирован в глазах читателей работами Ломброзо. «Богатая, гармонически развитая натура Пушкина, а не его гениальность, — писал Чиж, — служит нам доказательством его полного психического здоровья; что такое гений — мы не понимаем и… понимать не можем». Идеально здоровый Пушкин служил лучшим опровержением теории Ломброзо. Допуская, что «некоторые гении были люди больные», Чиж тем не менее утверждал: «тот несомненный факт, что Пушкин обладал идеальным душевным здоровьем, окончательно опровергает теорию о родстве или близости между гением и помешательством»19.
В том, что Пушкин был душевно здоров, с Чижом соглашался петербургский врач П.Я. Розенбах, считавший, что гений может быть «вполне уравновешенным психически». «Таковы, например, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Шекспир, Данте, Гёте, Шиллер, Моцарт, — писал он и добавлял с трогательной теплотой и патриотизмом, — наш Пушкин»20. В отличие от
Чижа, для которого показателем здоровья было гармоническое развитие, то есть сочетание в человеке всех высших качеств — любви к нравственности, истине и красоте, Розенбах ожидал от гения только «осуществления идеала красоты».
Воплощением идеала красоты был Пушкин и для петербургского психолога А.Ф. Лазурского. Соглашаясь, что гений и душевная болезнь не связаны между собой, в качестве показателя здоровья и критерия развития личности он избрал «душевную гармонию». Лазурский уточнял, что эта гармония, которую он называл также «психической координацией», «заключается вовсе не в том, чтобы все без исключения основные психические функции были развиты у человека в совершенно одинаковой степени». Если бы это было так, добавлял он, то все гении «походили бы, как две капли воды, друг на друга». Сущность психической координации заключается в том, что все второстепенные, дополнительные психические функции, развитые выше среднего уровня, тесно объединяются эндо- и экзопсихически вокруг основного ядра, составляющего… сердцевину данного гения, значительно его усиливая и обогащая»21. Такой «сердцевиной» может быть или добро — тогда человечество имеет «гениев альтруизма», таких, как Будда, Франциск Ассизский и Песталоцци, — или истина, как у «гениев знания» Декарта, Локка и Дарвина. У Пушкина же, считал Лазурский, — как и у Бетховена, Байрона, Шопена — «сердцевину» составляет художественный гений.
Если российские психиатры нашли самое убедительное опровержение теории Ломброзо в Пушкине, то для западноевропейских ее оппонентов такими контрпримерами служили Гёте и Кант. Через пять лет после пушкинского юбилея вышел русский перевод работы немецкого психиатра и психотерапевта Лео Лёвенфельда «О духовной деятельности гениальных людей вообще и великих художников — в частности». Ссылаясь на известных ему здоровых гениев — главным образом Канта и Гёте, — автор отстаивал точку зрения, противоположную Ломброзо: «гениальность имеет своим источником не болезнь, а здоровье»22.
Но у Ломброзо было и много сторонников (в том числе в России), которых привлекало его обещание дать естественнонаучное объяснение таланту. В один год с переводом книги Лёвенфельда вышла статья психиатра М.О. Шайкевича. Он возражал тем, кто считал, что гении не подходят под общепринятое понятие душевной болезни и должны измеряться особой меркой. С теми, кто говорит, что «великого человека нельзя втиснуть в рамки “обыкновенного”» и что «эмоциональная сфера великих творцов не одного масштаба с нашей», трудно согласиться: нельзя душевную болезнь гения называть «неуравновешенностью», нельзя исключить психиатрический диагноз у великого человека. Стремясь низвести гениев с их пьедестала, недосягаемого для естественно-научного объяснения, Шайкевич позволил себе усомниться даже в здоровье Пушкина. Он посчитал «доводы Чижа об идеальном душевном здоровье Пушкина… неубедительными». Тем не менее сам он еще не отважился утверждать, что у поэта было какое-то определенное душевное расстройство23.
В год столетия Пушкина киевский профессор психиатрии И.А. Сикорский повторил отзыв о нем как о «необыкновенном и беспримерном отражении русского народного духа», о его «простоте и верности натуре»24. Но уже несколько лет спустя Сикорский рискнул попытаться объяснить характер и творчество поэта его наследственностью. Внимание его как психиатра, интересующегося исследованиями национального характера, или, по выражению того времени, «расовой психологией», привлекло смешанное происхождение Пушкина. Ссылаясь на слова Достоевского о «всемирной отзывчивости» и «всече-ловечности» поэта, Сикорский нашел источник его «общечеловеческого психизма» в русско-эфиопских корнях. Согласно представлениям эпохи, такое происхождение усиливало жизнеспособность и создавало в человеке новые качества: «там, где… сталкиваются и конкурируют два начала, можно получить нежданную биологическую силу и третье начало — скрытое и подавленное». Воспроизводя современные ему расовые стереотипы, Сикорский писал: «Необузданность его природы, внезапная порывистость его решений и действий, разгул, бурные инстинкты с ухаживаниями, пиршествами, ссорами, дуэлями — всё это дань черному расовому корню». Рафинирует же страсти поэта и придает совершенство его восприятию, согласно Сикорскому, «здоровый привиток тонкой белой культуры души старинного дворянского рода»25.