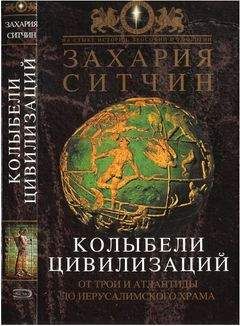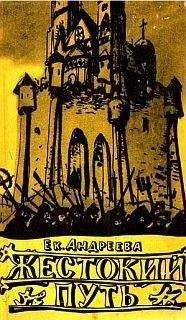Михаил Бахтин - Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса
Упомянем еще в этой же связи турецкий эпизод Панурга. Попавший в плен к туркам, Панург едва не погиб мученической смертью за веру на костре, но спасся чудесным образом. Построен эпизод как пародийная травестия мученичества и чуда. Поджаривают Панурга на вертеле, обложив предварительно салом, так как сам он недостаточно жирен. Мученический костер заменен здесь, следовательно, кухонным очагом. В конце концов ему, как мы сказали, удалось спастись чудесным образом, причем сам он зажарил своего мучителя. Кончается эпизод прославлением жаркого на вертеле.
Так, кровь превращается у Рабле в вино, а жестокое побоище и страстная смерть – в веселый пир, жертвенный костер – в кухонный очаг. Кровавые битвы, растерзания, сожжения, смерти, избиения, удары, проклятия, ругань погружены в «веселое время», которое, умерщвляя, рождает, которое не дает увековечиться ничему старому и не перестает рождать новое и молодое. Это понимание времени – не отвлеченная мысль Рабле, оно, так сказать, «имманентно» самой унаследованной им традиционной народно-праздничной системе образов. Рабле не создал этой системы, но в его лице она поднялась на новую и высшую ступень исторического развития.
Но, быть может, все эти образы – просто мертвая и стесняющая традиция? Быть может, все эти ленточки, которые привязывают к рукам избиваемого ябедника, эти бесконечные побои и ругань, это разъятое на части тело, эти кухонные принадлежности – только бессмысленные пережитки древних мировоззрений, ставшие мертвой формой, ненужным балластом, мешающим видеть и изображать реальную современную действительность так, как она есть на самом деле?
Нет ничего нелепее и вздорнее подобного предположения. Система народно-праздничных образов действительно складывалась и жила на протяжении тысячелетий. В этом длинном процессе развития были и свои шлаки, были и свои мертвые отложения в быту, в верованиях, в предрассудках. Но в основной линии своего развития эта система росла, обогащалась новым смыслом, впитывала в себя новые народные чаяния и мысли, перерабатывалась в горниле нового народного опыта. Язык образов обогащался новыми оттенками значений и утончался.
Благодаря этому народно-праздничные образы могли стать могущественным орудием художественного овладения действительностью, могли стать основой подлинного широкого и глубокого реализма. Народные образы эти помогают овладеть не натуралистическим, мгновенным, пустым, бессмысленным и распыленным образом действительности, – но самым процессом ее становления, смыслом и направлением этого процесса. Отсюда глубочайший универсализм и трезвый оптимизм народно-праздничной системы образов.
У Рабле эта система образов живет напряженной, актуальной и вполне сознательной жизнью, притом живет вся с начала и до конца, до мельчайших деталей, до разноцветных ленточек на рукавах избиваемого ябедника, до красной рожи другого ябедника, до древка креста с поблекшими лилиями, которым действует брат Жан, до его прозвища Зубодробитель. Ни одного мертвого и обессмысленного пережитка, – все насыщено актуальным, целеустремленным и единым смыслом. В каждой детали присутствует ответственное и ясное (но, конечно, не узкорассудочное) художественное сознание Рабле.
Это не значит, конечно, что каждая деталь была придумана, продумана и взвешена отвлеченной мыслью автора. Рабле художественно-сознательно владел своим стилем, большим стилем народно-праздничных форм; логика этого карнавального стиля подсказала ему и красную рожу сутяги, и его веселое воскресение после побоев, и сравнение с королем и двумя королями. Но его отвлеченная мысль вряд ли подбирала и взвешивала подобные детали в отдельности. Он, как и все его современники, еще жил в мире этих форм и дышал их воздухом, он уверенно владел их языком, не нуждаясь в постоянном контроле отвлеченного сознания.
Мы установили существенную связь побоев и ругательств с развенчанием. Ругательства у Рабле никогда не носят характера только личной инвективы; они универсальны и – в конечном счете – всегда метят в высшее. За каждым избиваемым и ругаемым Рабле как бы видит короля, бывшего короля, претендента в короли. Но в то же время образы всех развенчиваемых вполне реальны и жизненны. Совершенно реальны все эти ябедники и кляузники, мрачные лицемеры и клеветники, которых он бьет, изгоняет, ругает. Все эти лица подвергаются осмеянию, брани и побоям как индивидуальные воплощения отходящей власти и правды: господствовавшей мысли, права, веры, добродетели.
Эта старая власть и старая правда выступают с претензиями на абсолютность, на вневременную значимость. Поэтому все представители старой правды и старой власти хмуро-серьезны, не умеют и не хотят смеяться (агеласты); выступают они величественно, в своих врагах усматривают врагов вечной истины и потому угрожают им вечной гибелью. Господствующая власть и господствующая правда не видят себя в зеркале времени, поэтому они не видят и своих начал, границ и концов, не видят своего старого и смешного лица, комического характера своих претензий на вечность и неотменность. И представители старой власти и старой правды с самым серьезным видом и в серьезных тонах доигрывают свою роль в то время, как зрители уже давно смеются. Они продолжают говорить серьезным, величественным, устрашающим, грозным тоном царей или глашатаев «вечных истин», не замечая, что время уже сделало этот тон смешным в их устах и превратило старую власть и правду в карнавальное масленичное чучело, в смешное страшилище, которое народ со смехом терзает на площади [133].
Вот с этими-то чучелами и расправляется беспощадно жестоко и весело добрейший мэтр Рабле. С ними расправляется, в сущности, то веселое время, от лица и в тоне которого Рабле говорит. Живых людей Рабле не терзает – пусть себе уходят, – но сначала пусть снимут с себя свою королевскую одежду или свой по-маскарадному пышный плащ сорбоннского магистра, глашатая божественной правды. Он готов их даже наградить после этого или маленькой хибаркой на задворках и ступкой, чтобы толочь лук для зеленого соуса, как он наградил короля Анарха, или сукном на новые брюки, большой миской для еды, колбасой и дровами, как он наградил магистра Ианотуса Брагмардо.
На эпизоде с магистром Ианотусом мы остановимся. Эпизод этот связан с похищением молодым Гаргантюа колоколов собора Парижской богоматери.
Самый мотив похищения колоколов почерпнут Рабле из «Великой Хроники», но он расширен и преображен в его романе. Гаргантюа похищает исторические колокола Notre-Dame, чтобы превратить их в бубенчики для своей гигантской кобылы, которую он собирается отправить к отцу с грузом сыра и рыбы. Это развенчание соборных колоколов в бубенчики для кобылы – типичный карнавальный снижающий жест, сочетающий развенчание-уничтожение с обновлением и возрождением в новом материально-телесном плане.
Образ колокольчика или бубенчика (в большинстве случаев коровьего) появляется уже в древнейших свидетельствах о действах карнавального типа как их необходимый аксессуар. Колокольчики – обычная принадлежность и в мифических образах «дикого войска», «дикой охоты», «людей Эрлекина», которые уже с глубокой древности сливались с образами карнавального шествия. Фигурируют коровьи колокольчики и в описании шаривари начала XIV века в «Roman de Fauvel». Общеизвестна роль шутовских бубенчиков на одежде, на колпаке, на палке, на шутовском скипетре шута. Звон бубенчиков под масленичными и свадебными дугами мы слышим еще и сегодня.
У самого Рабле в его описании «дьяблерии», которую ставит Франсуа Виллон, также фигурируют бубенчики и колокольчики. Участники дьяблерии «были опоясаны толстыми ремнями, на которых висели коровьи бубенцы и колокольчики с мулов, производившие ужасающий звон» [134]. И самый образ развенчания колоколов в романе Рабле встречается еще раз.
В уже разобранном нами эпизоде сожжения шестисот шестидесяти рыцарей с превращением погребального костра в пиршественный очаг Пантагрюэль в разгаре самой пирушки, когда все работали своими челюстями, заявил: «Подвязать бы каждому из вас к подбородку по две пары бубенчиков, а мне колокола с пуатьерской, реннской, турской и камбрейской звонниц, – то-то славный концерт закатили бы мы, работая челюстями».
Церковные колокола и колокольчики оказываются здесь не на шее коров или мулов, а под подбородками у весело пирующих людей; их звон должен отражать движение жующих челюстей. Трудно найти образ более четко и наглядно, хотя и грубо, раскрывающий самую логику раблезианской игры снижениями, – логику бранного развенчания-уничтожения и обновления-возрождения. Развенчанные в высоком плане колокола, снятые с колоколен Пуатье, Ренна, Тура и Камбре, неожиданно оживают в пиршественном плане еды и обновляют свой звон, отзванивая движение жующего рта. Подчеркнем, что самая неожиданность нового применения колоколов заставляет их образ как бы заново родиться. Этот образ возникает перед нами, как нечто совершенно новое на этом новом фоне, несвойственном и чуждом его обычному появлению. И та сфера, в которой совершается это новое рождение образа, есть материально-телесное начало, в данном случае в его пиршественном аспекте. Подчеркнем еще буквальность, пространственную топографичность снижения: колокола с высоты колоколен переносятся вниз, под жующие челюсти.