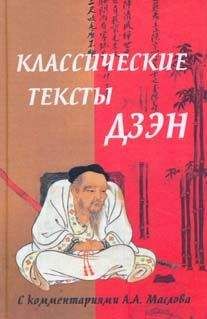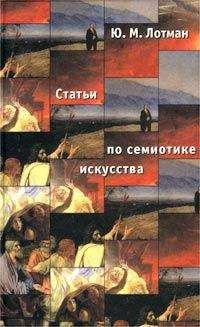А. Белоусов - Геопанорама русской культуры: Провинция и ее локальные тексты
Другим освоенным фельетоном пермским урочищем стала Мотовилиха. Вообще-то вплоть до 1930-х годов Мотовилиха оставалась административно самостоятельным населенным пунктом – рабочим поселком (это название сегодня закрепилось за одним из микрорайонов современной Мотовилихи)[138]. Естественному процессу объединения города и Мотовилихи мешал тот же самый Егошихинский овраг, который затруднял сообщение и поддерживал разделение города и поселка. Ощущение этой границы сохранилось до сих пор в бытующем среди мотовилихинцев выражении: «поехать в город».
И все-таки, даже будучи административно самостоятельной, Мотовилиха традиционно считалась пермяками своим пригородом, достаточно закрытым и обособленным, но все же исконно пермским локусом. Этому способствовали и пространственная близость поселка и его значимость в экономике Перми. Неслучайно пермские статистические показатели традиционно объединялись с мотовилихинскими: «В настоящее время домов в г. Перми, включая сюда Мотовилиху, Гарюшки и др. – 483, полукаменных – 835, деревянных —9179, всего – 10947,108000 жителей обоего пола», – сообщал, например, пермский путеводитель 1911 г. (ИП, 58). Жизнь Мотовилихи подробно освещалась городскими газетами и, в том числе, пермским фельетоном.
Среди горожан Мотовилиха считалась своего рода социальной резервацией с ярко выраженными чертами опасного и страшного места. Характерны в этом смысле пронизанные гражданским пафосом строки пермского мастера стихотворной публицистики Сергея Ильина:
Мрачна ты, жизнь заводская:
И пьянство и разврат,
И к буйству склонность скотская
И ад, семейный ад!
(Little man 1899,3)
Для фельетонов о Мотовилихе вообще характерны сюжеты с криминальным оттенком. Так, притчей во языцех стала буйная удаль мотовилихинцев, выливавшаяся в многочисленных драках, жертвами которых становились, по специфически фельетонной статистике, до 3,5 человек ежедневно (см.: Мельковский 1903, 3). Одна из фельетонных заметок о Мотовилихе называлась «Из темного царства». Повторяясь из текста в текст, подобные значения формировали образ почти инфернального места, где сконцентрированы общественные пороки. Характерным в этом ряду оказывается и выражение «мотовилихинские хароны»[139] – о лодочниках, работавших на переправе через Каму между дачным поселком Верхней Курьей и Мотовилихой.
При этом, в отличие от Разгуляя, описания Мотовилихи были лишены каких-либо идиллических характеристик. Если Разгуляй – это своего рода деревня в городе, то Мотовилиха, напротив, продукт индустриально-городского уклада, жертвой которого оказываются традиционные добродетели деревенской жизни:
Да, всюду замечается,
Что, на завод попав,
Крестьянин развращается,
Теряет добрый нрав
(Little man 1899,3)
В изображении фельетона мотовилихинцы – это прежде всего горожане. Так же, как у горожан, у них есть своя «загородная» зона – закамский берег напротив завода, где находился поселок Верхняя Курья. Традиционной темой летних фельетонов становится буйство мотовилихинских рабочих на правом берегу Камы. Очевидно, что дачный правый берег считался мотовилихинцами «своей» территорией и потому всегда служил предметом соперничества между ними и городскими дачниками, селившимися здесь на лето.
Нужно сказать, что тема Камы, вообще воды, в фельетонах о Мотовилихе оказывается очень активной. Это объяснимо характером местного ландшафта: здесь более пологий, чем в городской части, берег Камы. Мотовилихинцы поэтому оказывались ближе к реке и общались с ней чаще. Речная переправа – летом на лодках, зимой на санях – служила основным средством связи Мотовилихи с городом. Кроме того, благодаря ежегодному паводку мотовилихинцы не понаслышке знали о том, что такое настоящее наводнение. «По каналам селения снуют гондолы самых разнообразных форм и размеров. Слышатся песни гондольеров, звуки гармоники и <…> крепкое русское слово, которое только и заставляет вас вспомнить, что вы не в Венеции, а в Мотовилихе», – так комментировал фельетонист очередное мотовилихинское наводнение (Гукс 1902а, 3). Разумеется, сопоставление затопленной водой Мотовилихи с Венецией – это расхожее комическое преувеличение. В то же время, рассмотренное в контексте, оно связано с общим характером места опасного, страшного и таинственного.
Развитость образов Разгуляя и Мотовилихи, в отличие от других городских урочищ, не получивших такой подробной тематизации в местной фельетонистике, связана с исключительным статусом этих районов в истории города. Принято считать, что Пермь начиналась с медеплавильного завода, построенного в устье Егошихи в 1723 г., и Разгуляй – это пермский первогород. Построенный немногим позднее Мотовилихинский завод стал со временем одним из крупнейших военных предприятий России, играл важную роль в экономике Перми и был одной из достопримечательностей, входившей в число обязательных для посещения гостями города. Показателен фельетон С. Ильина, в котором он гадает, чем заинтересовать «гостей столичных»:
Чем их внимание занять?
Боюсь, что город поэтичным
Весьма рискованно назвать.
Вагоны ль, барки ль, пароходы
И нашу Каму показать?
Пейзажи ль северной природы:
Ручьи, болота и леса,
И серенькие небеса?
Урал и горные заводы —
Вот наша гордость и краса,
Их, не конфузясь, и покажем…
(Little man 1899,3)
Фельетонистика дает интересный материал и для общей характеристики Перми в восприятии местного сообщества. Пермь в целом характеризовалась, как правило, сравнительно немногими устойчивыми формулами-клише, вписывающими город и край в геопанораму России: Пермь характеризовалась как «окно в Азию», как город театральный, прежде всего оперный, и, конечно, как город на Каме.
Предметом особой гордости пермяков всегда служила богатая уральская природа. Природное окружение – лес и река – во многом определяли и географический, и культурный образ города. В этом смысле показательно, что в описании М. Осоргина Пермь конца XIX века предстает разместившейся вдоль одной улицы, «идущей из конца в конец города <…> от опушки пригородного леса до соборной площади, откуда был вид на Закамье – с высокого левобережья нашей замечательной стальной реки» (Осоргин 1992,489). То есть город мыслится открытым в безбрежное пространство реки и леса, граница между ним и миром природных стихий размыта.
Исключительность влияния реки и леса на характер города проявилась и в фельетоне. Любопытно, что, обращаясь к пермской природе, фельетонисты «сбивались» на вполне серьезный лирический тон. Характерная для жанра веселость исчезала, и фельетонный текст перемежался лирическими отступлениями. Особенно этот лиризм характерен для описаний Камы. Фельетонисты демонстрируют почти трепетное отношение к реке, которая, в согласии с фольклорной традицией, именуется красавицей, кормилицей, труженицей, Камушкой.
Весеннее пробуждение реки, освобождение ее ото льда было кульминацией в жизни города:
Взглянуть на Каму всяк стремится:
С утра до вечера толпится
В «загоне» радостный народ
И смотрит, как проходит лед,
Как льдину догоняет льдина,
Шурша, дробится на куски,
И тянет холодком с реки;
<…>
Беспечный, радостный, счастливый
По пермским улицам народ
С утра до вечера снует.
Уж жарок воздух, точно летом,
Но легок он, и пыли нет;
Весь город залит дивным светом,
Во всем блистает этот свет.
Вон полулуны минарета
Сверкают в славу Магомета,
И золотых крестов игра,
И Кама вся из серебра.
<…>
Пора особая настала
Для развлеченья пермяка,
Но это только лишь начало.
Когда ж очистится река,
И, мерно рассекая воды,
Пойдут гиганты-пароходы,
Совсем наш город оживет,
И день и ночь всю напролет
На пристанях и шум, и грохот.
Да! В это время, черт возьми,
Живется весело в Перми!
(Гамма 19066,3)
Этим отношением к реке продиктована и тревога за ее судьбу, вызванная промышленным освоением края. Характерна для фельетонистики экологическая тема – публицистические размышления о столкновении индустриальной, заводской цивилизации с природой и о его губительных результатах для леса и реки:
Ужель угрюмая тайга —
Парма, куда еще от века
Не проникала человека
Недружелюбная нога,
Ужель Парма врагу смирилась?
И лес, взлелеянный веками,
Могучий камских вод оплот,
Под видом бревен связан в плот,
Неисчислимыми плотами
Плывет покорно он по Каме,
К «цивилизации» плывет!
(Little man 1901а, 3)
Нередко, однако, в соответствии с тенденцией жанра высокие пермские темы в фельетоне карнавально снижались. Не была исключением и Кама, вызывавшая столь нежные чувства горожан: «Пермяки сугубо гордятся «красавицей Камой' и тычут ею в глаза всем и каждому» (Гукс 1901,4). В одном из фельетонов С. Ильина, так любившего воспевать «красавицу Каму», вдруг появляется совершенно противоположный по экспрессии образ: «Кама посинела, как труп самоубийцы, пролежавший на собачьем дворе две недели» (Бювар 1903, 3). Очевидно, родственное стремление противостоять риторическому клише побудило другого пермского поэта – уже конца XX века – сказать о Каме нечто подобное: «Псиной разит полуистлевшая Кама» (Кальпиди 1990,113).