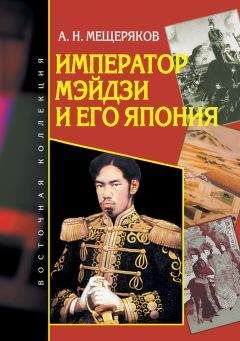Александр Мещеряков - Упразднение тела: японский тоталитаризм и культ смерти
25 октября двадцать четыре пилота отправились для совершения первого самоубийства. Пойдя на таран на своих истребителях «Зеро», они потопили один американский авианосец и повредили другой. С этого времени вылеты камикадзе превратились в повседневную практику. Добровольцев таких подразделений кормили получше, им сулили славу и приобщение к синтоистским божествам. «Встретимся в Ясукуни», — обещали они друг другу. Для самурая смерть посредством харакири считалась почетной, такой же посмертный почет обеспечивала и смерть камикадзе.
Как правило, записаться в смертники имели право только неженатые младшие сыновья. Старший сын таким правом не обладал — он был будущим главой семьи. Перед смертельным полетом пилоты надевали чистую одежду, выпивали очистительную чарку сакэ (или воды), молились перед синтоистским алтарем, фотографировались «на память», писали предсмертные стихи и письма родным. В почтовые конверты, предназначавшиеся для посылки родственникам, они вкладывали прядь своих волос и остриженные ногти — такие обрядовые действия было принято совершать над телом покойника. В предсмертных стихах (сочинение стихов было частью традиционного ритуала харакири) они часто сравнивали себя с цветами сакуры. Перед последним полетом пилот–смертник, младший лейтенант Окабэ Хэйити, писал:
Нам бы только упасть,
Словно цветы весенней сакуры —
Лепестки так чисты и сияющи!
Одноразовые летательные аппараты смертников также носили имя цветов этого дерева. Психологию смертника с предельной ясностью выявляет фраза одного из них: «Когда есть выбор между жизнью и смертью, всегда лучше умереть!». Этот молодой человек хорошо усвоил заветы Ямамото Цунэтомо.
В японской армии не существовало заградительных батальонов. Ко времени организации частей камикадзе массовый героизм, мужество и жертвенность японских солдат и офицеров ни у кого из европейцев уже не вызывали удивления. «Психические атаки» под шквальным огнем (американцы называли их «банзай–атаками»); солдаты, которые шли по минному полю, расчищая ценой своих жизней путь для товарищей; летчики, не бравшие в полет парашюты; капитаны кораблей, в соответствии с традициями британского флота отказывавшиеся покинуть тонущий корабль… У летчиков считалось хорошим тоном взять с собой меч. В других армиях из–за опасения расстроить работу компаса пилотам запрещалось проносить в кабину металлические предметы, но для японского летчика гораздо важнее было ощутить свою связь со средневековым самураем.
Даже находящийся в безвыходном положении воин всегда сохраняет какую–то надежду на спасение. У камикадзе такой надежды не оставалось. Они летели за смертью. В их полетном задании значился таран. Пилоты–камикадзе были «одноразовыми» летчиками, их самолеты — такими же техническими средствами. Подобная техника использовалась и на флоте: крошечные и технически несовершенные подводные лодки–торпеды, деревянные катера, начиненные взрывчаткой.
История (или легенда, ставшая правдивой историей?) повествует о лейтенанте Фудзии Хадзимэ, которого командование не зачисляло в ряды камикадзе по причине его семейного положения. Видя его отчаяние, супруга лейтенанта утопилась вместе с тремя детьми. И тогда мечта Фудзии исполнилась: он стал камикадзе и тоже погиб.
Камикадзе воплотили суть отношения японцев к войне. Самым главным в этом отношении было желание достойно умереть. Такая смерть была публичным и театрализованным актом, о котором обязательно должны были узнать другие. Отсюда и помещавшиеся в прессе предсмертные фотографии камикадзе, и кинокадры, запечатлевшие вылет их самолетов, и их прощальные письма родным. Киножурнал «Японские новости», в последний год войны больше 20 процентов времени уделявший документальным сюжетам о камикадзе, непременно заканчивал свои репортажи кадрами исчезающих в небе боевых машин смертников, что символизировало их «подъем на небо», то есть конец их земной жизни и превращение в божество.
Война была механизмом по трансформации людей не только в «обычных» героев, но и в синтоистских богов. Подсказанные подсознанием формы обожествления затрагивали те ментально–эмоциональные структуры, которые служили делу канонизации пилотов–камикадзе. Эта канонизация проводилась в соответствии как с религиозными требованиями, так и с установками более широкого плана, предполагающими, что пилот–смертник ведет борьбу прежде всего сам с собой. Поэтому пропагандистская машина делала акцент не столько на ущербе, который он нанес врагу, сколько на сцене прощания, которая приобщала его к божествам.
Один из смертников в своем предполетном письме сообщал родителям, что атаку на авианосец будет сопровождать оператор, так что, возможно, они смогут увидеть своего сына в кинохронике. Правила традиционного самурайского способа свести счеты с жизнью тоже предполагали публичность — зрителей и ««помощника», который отрубал голову самоубийце. Предполагалось, что главным судьей человека выступает не он сам, не бог, а люди. Японец не был в состоянии освободиться от их внимательных глаз даже в момент смерти. Одного сознания собственной правоты было недостаточно — требовались свидетели. Отсюда обыкновение вешать в кабине фотографию любимого человека, как правило, матери.
В японской армии, как уже сказано, не награждали орденами и медалями за храбрость и мужество при жизни. Они могли быть вознаграждены только посмертно — внеочередным продвижением по службе. Добровольная смерть была средством своеобразной вертикальной мобильности. Смертники живо и с удовольствием представляли себе сцену, когда родителей извещают о геройской смерти их сына. Сцена посещения ими святилища Ясукуни вставала перед глазами и согревала душу. Смерть обладала такой очистительной силой, что смывала все грехи. В обращенном к своим домашним предсмертном письме водителя человекоуправляемой торпеды говорилось: «Я рос балованным ребенком и доставил всем вам много беспокойства и трудов. Но, пожалуйста, простите мне все это, когда вы узнаете о моей смерти».
В 1943 году Япония потеряла два острова на Алеутском архипелаге, отвоеванном у Америки. Гарнизон Кыски успешно эвакуировался, гарнизон Атту был полностью истреблен американцами. После убийственных бомбардировок японские солдаты (обессилевшие от голода, лишенные боезапаса, раненые, контуженые) не сдались, а поднялись в полный рост и пошли в последнюю смертельную атаку, не имея никаких шансов ни на спасение, ни на победу. О Кыски японская пресса почти не писала, хотя по всем меркам военного искусства это была успешно проведенная операция, спасшая гарнизон от неминуемой смерти. Именно солдаты с Атту превратились в метафору доблестного служения родине и императору. Погибая на поле боя, японец становился «ратным богом», который защищает Японию. И чем больше было таких смертей, тем сильнее становилась Япония. «Правильная» смерть служила мерилом жизни, смывала грехи и открывала путь к миру. Считалось, что с окончанием войны настанет вечный мир и «ратные боги» превратятся в «богов мира».
Смерть на поле боя была эквивалентом персонального очистительного ритуала, предвестником общей победы и вечного мира. «Смерть красит человека» — таково было убеждение японцев того некрофильного времени.
При этом утверждалось, что представители других народов на такую смерть не способны. Выдающийся певец японского духа писатель Хино Асихэй утверждал: «Как может вражеская Америка, избравшая мерилом исключительно цифры и вещи, понять красоту духа, который не имеет отношения ни к цифрам, ни к вещам? По отношению к японским воинам, которые, даже находясь в меньшинстве, сражаются до последнего солдата, американцы способны почувствовать лишь испуганное удивление. Поголовная и добровольная смерть японских воинов способна вызвать у врага лишь чувства бессмысленности и ужаса — ведь враг не ведает красоты смерти».
Таким образом, японцы и иностранцы различались не только по способу жить (беззаветное служение японца императору), но и по способу умирать, который тоже являлся одним из средств служения и проявления верноподданничества.
Противник представлялся не столько мишенью, сколько средством для пестования духа. При таком настрое, когда главным жизненным актом являлась собственная смерть, соображения военной тактики и целесообразности отходили на второй план. Смерть летчика была для страны потерей. Потеря сына была для семьи трагедией. Однако ни сами воины, ни командование не думали о том, что следует беречь жизнь. Японский воин середины ХХ века действительно походил на средневекового самурая. Для того тоже самым главным было избежать индивидуального позора. Думать о спасении означало дорожить своей жизнью. А это противоречило кодексу чести. Мысль о том, что ты сделал все для победы, была важнее самой победы. Мысль о том, что после смерти твоим родственникам доставят ящик, перевязанный крест–накрест веревками (знак позорной смерти), заставляла искать смерти на поле боя. Проиграть битву не означало покрыть себя позором. Позором были страх смерти и малодушие. Японские пленные не доставляли хлопот победителям — по той причине, что воины императорской армии в плен не сдавались ни при каких обстоятельствах. Они не знали, что такое белый флаг. Они предпочитали совершить харакири, пустить пулю в лоб, подорвать себя гранатой, броситься на врага без оружия, чтобы быть застреленным. Победа над собой означала для них победу вообще. В плен попадали только тяжелораненые и контуженые. Во время Второй мировой войны на 120 погибших японцев приходился только один человек, попавший в плен. В войсках западных стран на трех убитых приходился один пленный.