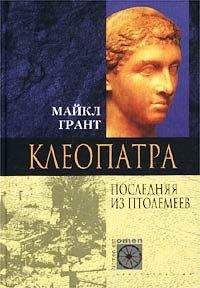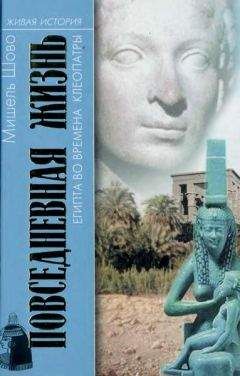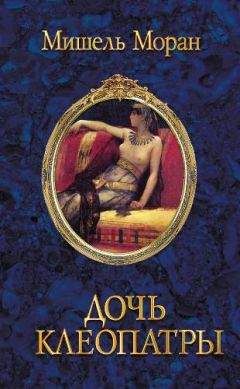Игорь Сухих - Душа болит
В "Дяде Ермолае" Шукшин ставит этот вопрос уже от первого лица. Стоя над могилой колхозного бригадира, с которым когда-то в детстве вместе работали, повествователь пытается разгадать, был ли в его жизни и в жизни таких, как он, какой-то большой смысл, или люди просто работали, рожали детей и бесследно исчезли в свой час. "Видел же я потом других людей... Вовсе не лодырей, нет, но... свою жизнь они понимают иначе. Но только когда смотрю на их холмики, я не знаю: кто из нас прав, кто умнее? Не так — не кто умнее, а — кто ближе к Истине. И уж совсем мучительно — до отчаяния, до злости — не могу понять: а в чем Истина-то? Ведь это я только так — грамоты ради и слегка из трусости — величаю ее с заглавной буквы, а не знаю — что она? Перед кем-то хочется снять шляпу, но перед кем? Люблю этих, под холмиками. Уважаю. И жалко мне их".
Последние "внезапные рассказы" акцентируют этот мотив еще дважды.
В "Чужих", приведя громадную цитату из книги о дяде последнего царя великом князе Алексее, Шукшин вдруг рассказывает жизнь деревенского пастуха, дяди Емельяна.
Первый был генерал-адмиралом, хозяином русского флота, красиво жил, воровал, играл. Его государственная деятельность закончилась Цусимой, где под японскими снарядами пошли на дно русские корабли, русские моряки, русская слава, а сам он оказался в Париже, живя той же привычной жизнью, пока не "помер от случайной простуды".
Другой в юности был моряком на одном из тех цусимских кораблей, сидел в японском плену, потом прожил обычную жизнь сибирского мужика: молодецки дрался, гонял плоты, язычески верил в заговоры и заклинания, пережил почти всю большую семью и умер в одиночестве в родной деревне.
Шукшин извлекает из этого сюжета не лобовой социальный контраст, а очередной безответный вопрос: "Для чего же я сделал такую большую выписку про великого князя Алексея? Я и сам не знаю. Хочу растопырить разум, как руки, — обнять эти две фигуры, сблизить их, что ли, чтобы поразмыслить — поразмыслить-то сперва и хотелось, а не могу. Один упрямо торчит где-то в Париже, другой — на Катуни, с удочкой. Твержу себе, что ведь — дети одного народа, может, хоть злость возьмет, но и злость не берет. Оба они давно в земле — и бездарный генерал-адмирал, и дядя Емельян, бывший матрос... А что, если бы они где-нибудь ТАМ — встретились бы? Ведь ТАМ небось ни эполетов, ни драгоценностей нету. И дворцов тоже, и любовниц, ничего: встретились две русские души. Ведь и ТАМ им не о чем было бы поговорить, вот штука-то. Вот уж чужие так чужие — на веки вечные. Велика матушка-Русь!"
Говорят, там, наверху, нет ни эллина, ни иудея. Там нет перегородок. Шукшин воображает их и ТАМ, даже у людей, говоривших на одном языке.
"А велика матушка Россия!" — говорил мудрый старик, святой из Фирсанова, в чеховской повести "В овраге", понявший и пожалевший убитую горем женщину, надеясь пожить еще годочков двадцать, веря, что было и дурное, и хорошее, но хорошего было больше.
Шукшинский вздох безнадежнее. Матушка-Русь велика настолько, что люди затерялись во времени и пространстве, утратили общие представления о добре и зле и потому не могут понять друг друга ни здесь, ни там.
"Мы просто перестаем быть единым народом, ибо говорим действительно на разных языках", — заметил в конце шестидесятых Солженицын.
А было бы о чем поговорить пастуху Емельяну и бывшему пастуху Никите Хрущеву, если бы они встретились ТАМ?!
В "Жил человек" тоже от первого лица, без всякого стилистического блеска, в запинающейся оговорочной манере изложена простая история: сердечник, который успел рассказать историю своей жизни, но не успел — анекдот, умирает ночью в больничной палате. "Точечка-светлячок" кардиограммы в "синем, как кусочек неба" квадрате телевизора останавливается вместе с сердцем.
"Люди вошли в палату, где лежал... теперь уже труп, телевизор выключили. Всю ночь я лежал потом с пустой душой, хотел сосредоточиться на одной какой-то главной мысли, хотел — не понять, нет, понять я и раньше не пытался, не мог — почувствовать хоть на миг, хоть кратко, хоть тот следок тусклый, чуть-чуть бы хоть высветлилось в разуме, в душе ли: что же это такое было — жил человек... Этот и вовсе трудно жил. Значит, нужно, что ли, чтобы мы жили? Или как? Допустим, нужно, чтобы мы жили, то тогда зачем не отняли у нас этот проклятый дар — вечно мучительно и бесплодно пытаться понять: "А зачем все?" Вон уж научились видеть, как сердце останавливается... А зачем все, зачем! И никуда с этим не докричишься, никто не услышит. Жить уж, не оглядываясь, уходить и уходить вперед, сколько отмерено. Похоже, умирать-то — не страшно".
"— Жил, жил человек и умер. — А чего бы ты хотел? — говорю" (С. Довлатов).
В "Калине красной" Шукшин сыграл смерть героя. В статье о родных местах он пытался представить собственную кончину: "Когда буду помирать, если буду в сознании, в последний момент успею подумать о матери, о детях и о родине, которая живет во мне. Дороже у меня ничего нет".
Никто никогда не узнает, о чем он подумал в последний миг ночью второго октября семьдесят четвертого года и успел ли подумать о чем-нибудь вообще. Литературе, как молитве, в таких случаях приходится верить на слово.
Слова Россия, родина, государство были захватаны жирными пропагандистскими пальцами, истрепались от долгого и неумеренного употребления. В своей артистической прозе Шукшин чаще их избегал или делал предметом иронической игры.
В рассказе "Забуксовал" (его анекдотической моделью можно считать чеховское "Не в духе") совхозный механик Роман Звягин вдруг спотыкается на гоголевской птице-тройке, которую зубрит его сын-школьник. Думая о своем, о постоянном шукшинском ("Половину жизни отшагал — и что? Так, глядишь, и вторую протопаешь — и ничегошеньки не случится... И очень даже просто — ляжешь и вытянешь ноги, как недавно вытянул Егор Звягин, двоюродный брат..."), он вдруг делает собственное литературное открытие. "Вдруг — с досады ли, что ли, со злости ли — Роман подумал: "А кого везут-то? Кони-то? Этого... Чичикова?" Роман даже привстал в изумлении... Прошелся по горнице. Точно, Чичикова везут. Этого хмыря везут, который мертвые души скупал, ездил по краю. Елкина мать!.. Вот так троечка! ... Вот так номер! Мчится, вдохновенная богом! — а везет шулера. Это что ж выходит? — не так ли и ты, Русь?.. Тьфу! ...Тут же явный недосмотр! Мчимся-то мчимся, елки зеленые, а кого мчим? Можно же не так все понять. Можно понять..."
Школьный учитель, к которому герой идет за разъяснением, сначала долбит привычные прописи ("Гоголь был захвачен движением, и пришла мысль о России, о ее судьбе..."), потом и сам запутывается ("И так можно, оказывается, понять").
Проблема так и остается неразрешенной. Учитель идет фотографировать закаты, механик, удивляясь своему ребячеству, идет домой. "Он — не то что успокоился, а махнул рукой, и даже слегка пристыдил себя: "Делать нечего: бегаю как дурак, волнуюсь — Чичикова везут или не Чичикова?" И опять — как проклятие — навалилось — подумал: „Везут-то Чичикова, какой же вопрос?"".
В подтексте прозы Шукшина постоянно пульсирует и этот, гоголевский, вопрос: "Русь, куда же несешься ты? Дай ответ!.. Не дает ответа".
Писатель-пророк задавал его из далекого Рима. Сельский механик пытается найти на него ответ через сто лет с лишним из глубины России-СССР.
Коварное шукшинское "заземление" кажется сегодня даже более острым, чем гоголевская лирика.
Чичиков, наконец, доехал?!
Необгонимая тройка — с обрыва...
Поздно решать: права — не права.
Неудержимо, необратимо
На площади Красной растет трава.
С писателем уходит его мир — это неизбежно. Но — если это настоящий писатель — неизбежно должна быть подхвачена его тема.
Кажется, шукшинская жизнь, шукшинские герои бесследно исчезли, шукшинские вопросы потеряли прежнюю остроту. Но скорее всего они на время притаились, замерли в ожидании нового летописца.