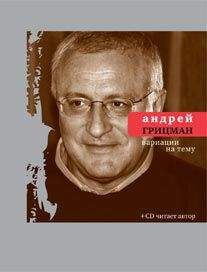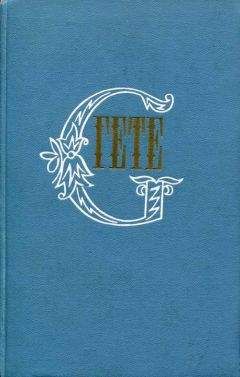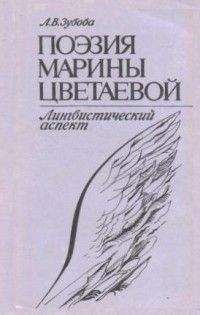Октавио Пас - Избранные эссе
Утверждение, что язык исключительно человеческое достояние, противоречит вековым поверьям. Вспомним, как часто начинаются сказки: «Во времена, когда звери говорили…» Как ни странно, это поверье было подхвачено наукой прошлого века. Еще и сейчас многие утверждают, что системы коммуникации животных не так уж отличаются от тех, которыми пользуется человек. Есть знатоки, для которых выражение «язык птиц» вовсе не стертая метафора. Действительно, две главные характеристики человеческого языка есть и в языке животных: это значение, хотя и в самой элементарной и зачаточной форме, и коммуникация. Крик животного на что-то намекает, о чем-то говорит, у него есть значение. И это значение воспринимается и, так сказать, понимается другими животными. Эти неартикулированные возгласы составляют систему знаков, у которых есть значение. Но ведь именно такова функция слов. А значит, речь — это не что иное, как развитие языка животных, и, стало быть, именно естественные науки, изучающие природные явления, могут изучать и слова.
Первое возражение, которое приходит на ум, — это несравненно большая сложность человеческой речи, второе — в языке животных нет следов абстрактного мышления. Впрочем, это количественные отличия, а не по существу дела. Более весомым мне кажется то, что Маршалл Урбан{27} называет трехсторонней функцией слов. Слова на что-то указывают и что-то обозначают, они суть имена; они также представляют собой непосредственную реакцию на какой-то материальный или психический раздражитель, например междометия и ономатопея; и еще, слова — это представления, то есть знаки и символы. Иными словами, речь идет об указательной, эмоциональной и репрезентативной функциях. Эти три функции есть у каждого словесного выражения, притом что одна из них обычно бывает ведущей. Но не бывает представлений без указания на что-то и вне эмоционального контекста; то же самое можно сказать и о двух других функциях. И хотя эти три функции никак не обособить, главной из них является символическая. Ведь без представления нет указания: звуки, из которых состоит слово «хлеб», отсылают нас к соответствующему предмету, без них не было бы никакого указания — указание символично. Так и выкрик — это не только инстинктивный ответ на какую-то ситуацию, но и ее называние, слово. В конечном счете «сущность языка заключается в передаче, Darstellung, одного элемента опыта через другой, в соотнесении знака или символа с обозначаемой или символизируемой вещью и в осознании этого».[5] После этого Маршалл Урбан задается вопросом: а есть ли у животных три перечисленные функции? Большая часть специалистов утверждает, что «набор звуков, издаваемых обезьянами, совершенно «субъективен» и относится только к их чувствам, но никогда ничего не обозначает и не описывает». То же самое можно сказать об их мимике и жестах. На самом деле, в иных криках животных можно уловить какие-то слабые намеки на указание, но ни о символической, ни репрезентативной функции ничего сказать нельзя. Так что между языком животных и языком людей лежит пропасть. Человеческий язык — это нечто совершенно отличающееся от коммуникации животных. И различия эти качественного, а не количественного порядка. Язык — это что-то присущее только человеку.[6]
Гипотезы, объясняющие происхождение и развитие языка постепенным восхождением от простого к сложному — от междометия, крика или ономатопей к символизирующему и указывающему выражению, — тоже неосновательны. Язык первобытных обществ очень сложен. Почти во всех архаических языках есть слова, тождественные фразам и целым предложениям. Изучение этих языков подтверждает открытия культурной антропологии: по мере углубления в прошлое мы сталкиваемся не с более простыми обществами — а именно так думали в XIX веке, — но с обществами необычайной сложности. Принцип восхождения от простого к сложному оправдан в естественных науках, но не в науках о культуре. Но если никакой символической функции в языке животных нет, то и гипотеза происхождения языка из языка животных оказывается несостоятельной, и все же ее великая заслуга в том, что она включает «язык в мир жеста». Еще не начав говорить, человек жестикулирует. В жестах и телодвижениях есть смысл. В них присутствуют все три элемента языка: указание, эмоциональное отношение, представление. Люди говорят лицами и руками. Если согласиться, что крик животных принадлежит миру жеста, то в нем можно отыскать зачатки представления и указания. Возможно, первым языком человечества была пантомима, немой язык ритуально-подражательного действа. Следуя законам всеобщей аналогии, движения тел подражают вещам и воссоздают способы обращения с ними.
Каким бы ни было происхождение языка, в одном, кажется, специалисты сходятся, а именно в «мифологической природе слов и языковых форм». Современная наука впечатляюще подтверждает идею Гердера{28} и немецких романтиков: «Несомненно, язык и миф первоначально были неразрывно связаны… Оба являются выражением одной основополагающей тенденции к образованию символов, в основе же всякой символизации лежит метафора». Язык и миф суть обширные метафоры. Сущность языка символична, ведь он передает один элемент реальности через другой точно так, как это делает метафора. Наука подтверждает то, во что всегда верили поэты: язык — это поэзия в естественном состоянии. Любое слово или сочетание слов — это метафора. Но это еще и орудие магии, иными словами, нечто способное превращаться в другую вещь и преображать то, чего оно касается. Слово — это символ, рождающий символы. Человек есть человек благодаря языку, изначальной метафоре, которая принудила его стать другим, изъяв из мира природы. Человек — это сущее, которое сотворило самого себя, творя язык. В слове человек становится своей собственной метафорой.
Язык сам собой выпадает в кристаллы метафор. Слова ежечасно сталкиваются меж собой, сыпля металлические искры и слагаясь в лучащиеся словосочетания. На ночном небосклоне слов непрестанно зажигаются новые звезды. И что ни день на поверхность языка всплывают слова и фразы, с холодной чешуи которых еще стекает влажное молчание. И тогда все прежние слова куда-то исчезают. Заброшенное поле языка вдруг покрывается словесными соцветиями. В их зарослях расселяются светляки. И надо сказать, это прожорливые создания. В лоне языка идет беспощадная война. Все против одного. Один против всех. Пришедшая в движение необъятная масса, непрерывно творящаяся и пересотворяющаяся, исполненная самой собой. С уст детей, безумцев, мудрецов, дураков, влюбленных, отшельников слетают образы, причудливые сочетания, возникающие из ниоткуда. Они вспыхивают и гаснут. Сотканные из легко воспламеняющейся ткани, слова возгораются, едва их коснется воображение. Но пламени своего им не удержать. Язык составляет суть поэтического произведения, питает его, но сам он не произведение. Разница между произведением и поэтическими выражениями — независимо от того, изобретены они вчера или их тысячу лет твердит народ, хранящий свои традиции — заключается вот в чем: произведение стремится превзойти язык, в то время как поэтические выражения, напротив, живут внутри языка, кочуя из уст в уста. Они не творения. В поэтическом произведении речь, язык общества сгущается, отливается в форму. Поэтическое произведение — это язык, обретший самостояние.
И как никому не приходит в голову, что автор гомеровского эпоса весь народ, так никто не думает, что поэтическое произведение — это какой-то естественный продукт языка. Лотреамон хотел сказать совсем другое, когда возвещал, что придет день и поэзию будут творить все. Поистине головокружительный проект. Однако получается — и так бывает со всеми революционными пророчествами, — что эта грядущая всеобщая поэтизация не что иное, как возвращение к истокам времени. К тому самому времени, когда говорить и творить было одно и то же. Возвращение к отождествлению вещи с ее именем. Ведь расстояние между словом и вещью — а именно оно и превращает каждое слово в метафору — есть по сути разрыв между человеком и миром природы, потому что как только человек обрел самосознание, он обособился от природного мира и, пребывая собой, стал иным для самого себя. Слово нетождественно вещам, которые оно называет, потому что между человеком и вещами и — еще глубже — между человеком и его бытием вклинивается сознание себя. Слово — это мостки, перекидывая которые человек старается преодолеть расстояние между собой и миром. Но от него никуда не денешься, без этого расстояния нет человека. Чтобы избавиться от него, человек должен отречься от человеческого в себе, то ли слившись с миром природы, то ли отринув все естественные ограничения. Оба искушения — а им человечество подспудно подвергалось во все времена — ныне особенно сильны. Вот и современная поэия мечется между двумя крайностями: с одной стороны, она хочет быть магией, с другой — зовом революции. И то и другое желание суть попытки бороться с собственной судьбой. Ведь «переделать человека» — значит отречься от человеческого способа быть, навеки окунуться в животное неведение и освободиться от груза истории. Но освободиться от груза истории — значит перевернуть понятия в одном старом определении-утверждении, сказав, что не историческое бытие определяет сознание, но сознание предопределяет историю. Революционный порыв освобождает отчужденное сознание, и оно завоевывает мир истории и природы. Но, овладев законами истории и общества, сознание предопределит бытие. И тогда род человеческий свершит свое второе сальто-мортале. Свершив первое, он обособился от мира природы, перестал быть животным, встал на ноги, увидел природу и увидел себя. Свершив второе, он вернется к изначальной целостности, не только не утратив сознания, но сделав его реальным основанием природы. И хотя для человека это не единственная возможность обрести утраченное единство сознания и бытия — магия, мистика, религия, философия предлагали и предлагают другие пути, — преимущество этого способа состоит в том, что он открыт всем людям и предстает как цель и смысл истории. Вот тут-то и надо задаться вопросом: допустим, человек обрел это изначальное единство, зачем теперь ему слова? С исчезновением отчуждения исчезнет и язык. Эту утопию постигнет та же участь, что и мистику, — безмолвие. В конце концов, что бы мы ни думали по этому поводу, очевидно, что слияние или, лучше, воссоединение слова и вещи, имени и того, что именуется, предполагает согласие человека с собой и с миром. А пока этого согласия нет, поэзия будет одним из немногих способов преодоления самого себя и встречи с тем, что человек есть во всей своей глубине и первозданности. Поэтому не следует путать россыпи красноречия с таким рискованным и дерзновенным предприятием, как поэзия.