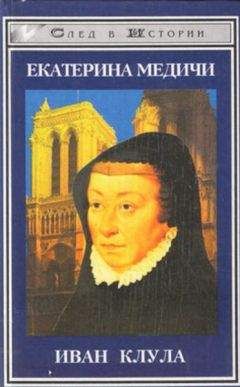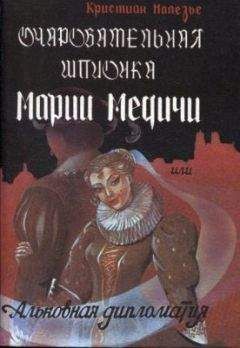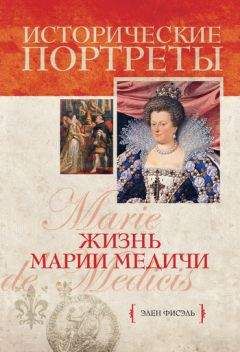Сергей Романовский - Нетерпение мысли, или Исторический портрет радикальной русской интеллигенции
Почему? Да только потому, что история – это концентрат, даже конгломерат политической деятельности ведущих исторических персонажей. Они стоят за бруствером исторической колесницы и часто поворачивают ее совсем не на ту дорогу, на которую, казалось бы, указывает внутренняя логика исторического процесса.
Отсюда, кстати, выводится интересная чисто научная проблематика: связать складывающуюся веками ментальность нации с разумом и волей конкретных исторических деятелей, инициатива которых и предопределяет цепь исторических коловращений [24].
Придется и нам сделать вывод, к которому в свое время пришел Н. А. Бердяев: «имманентного смысла история не имеет, она имеет лишь трансцендентный смысл» [25]. Поэтому любые предсказания, даже сбывшиеся, точнее все же считать пророчествами [26]. На что, к примеру, мог опираться 16-летний Лермонтов, когда писал свое жуткое – кстати сбывшееся – «Предсказание»:
Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутый не защитит закон…
Ответить невозможно. Приводить рациональные доводы глупо, а пытаться дознаться до неведомых движений души поэта – бессмысленно.
Русские писатели (поэты прежде всего) фокусировали русскую историю в точном, наглядном и единственном образе. Они обладали даром, которого напрочь лишены историки_профессионалы: отчетливо видеть будущее.
В определенном смысле коротенькое «Предсказание» Лермонтова перевешивает 12 томов дотошного Н. М. Карамзина, а отчетливо увиденные Ф. М. Достоевским сквозь завесу времени «бе-сы» – наиболее наглядная демонстрация русскому обществу социально-экономического гнойника марксизма. Д. Л. Андреев в своей «Розе мира» назвал именно Лермонтова и Достоевского «великими созерцателями “обеих бездн”» [27] – бездны прошлого и бездны будущего.
Можно, очевидно, сказать, что русская литература XIX столетия, – это напряженный нерв российской истории [28]. Почему так?
Видимо, потому, что литература в России во многом заме-няла парламент, университет, церковь. Литература – воспитатель, она же – ниспровергатель. Но главная мысль русской классической литературы, особенно отчетливо выраженная Гоголем и Достоевским, – не угрожай жизни силой, ты не преобразуешь, а лишь порушишь ее, – к сожалению, оказалась непонятой русской интеллигенцией.
Да, русские поэты тонко и глубоко чувствовали нависшую над Россией грозовую тучу. Ее никто не видел, а они уже слышали громовые перекаты. Лермонтов, Тютчев, Блок буквально рвали душу своими профетическими рифмами.
Есть еще одна устойчивая закономерность: русская литература всегда была ориентирована на собственное вuдение истории, причем ориентация эта чаще всего оказывалась проблемной, выводящей на спор. Иными словами, русская культура всегда как бы спорила с историей своей страны [29].
И нельзя пенять на русскую интеллигенцию и даже архаичное царское правительство, что они не слышали предрекания своих поэтов. Слышали, разумеется. Нельзя было не покрываться мурашками, читая «Бесов»; невозможно было без животного ужаса внимать «Предсказанию» Лермонтова…
Но русская интеллигенция рефлексировала эти образы будущего по-своему: через истерическую публицистику и туманную религиозно-мистическую философию. От подобных рецептов можно было прийти в еще большее уныние. Правительство же, призванное уравновешивать настроения разных социальных сфер, судорожно металось между «устоями» и назревшими новациями. А поскольку оно никогда в России не было самостоятельным, то все начинания верхов оказывались «не ко времени», они не столько успокаивали людей, сколько раздражали их.
К тому же русская интеллигенция, наиболее совестливая и комплексирующая часть общества, чувствовала себя в России «от-щепенцами», никому не нужными интеллектуальными отходами государства: народ на них смотрел как на пришельцев с Луны, а для правительства они служили постоянным раздражителем, оно отмахивалось от «интеллигентских штучек», как от назойливо жужжащих комаров. Это возбуждало у интеллигенции еще больший преобразовательский зуд…
Может быть следует перевести интересующий нас вопрос отношения к российской истории в другую плоскость и попытаться понять, чтo станется с историей, если ее лишить навязанного нами же детерминизма, зато наделить всеми атрибутами вероятностной науки, т.е. предположить, что она в состоянии просчитать вероятность последующего события, когда известно, какое событие реально перед ним произошло. Что из этого может следовать? Очень многое.
Если, например, исторический пасьянс покажет, что наиболее вероятно одно, а на самом деле случилось другое, значит, влияние субъективной воли, учесть которую практически невозможно, играет в истории решающую роль. Станет также ясно, что пресловутая внутренняя логика исторического процесса является пока доминирующим аргументом только потому, что грамотно разложить событийные карты истории – задача еще более сложная, чем выстроить классические объяснительные концепции в рамках истории детерминированной.
К тому же есть еще один довод в пользу именно вероятностного подхода к историческому процессу. Он опирается на так называемую «философию нестабильности» бельгийского физика, нобелевского лауреата И. Пригожина. Из нее следует, что даже если мы в принципе можем знать начальные условия в бесконечном числе точек, что на языке истории означает знание всех свершившихся событий за конкретный отрезок времени, будущее тем не менее остается принципиально непредсказуемым [30].
Итак, с будущим история ничего общего иметь не может. Это не ее сфера. И все же «поля нереализованных возможностей» история анализировать обязана, ибо это дает основание ученым мысленно пройти и по другим историческим тропам и, оценив складывающиеся сегодня исторические перспективы, более трезво относиться к тому, что реально уже свершилось. Ю. М. Лотман считал, что «не пройденные дороги для историка такая же реальность, как и пройденные» [31]. Для историка – да, но не для истории. Историк и путешествует по этим дорогам только для того, чтобы понять, почему история ими пренебрегла.
Немецкий философ А. Шопенгауэр выдвинул психологически крайне неприятный тезис: история человечества – это история зла, поскольку в схватке силы и разума верх всегда берет сила, ведь ее пособником является разум и он же становится слугой новой силы. Получается парадоксальный, на первый взгляд, вывод, будто разум – умножитель зла.
На самом деле никакого парадокса здесь нет. Если разум рассматривать в пространстве нравственных категорий, то он может рождать только добро. Но коли мы переместились в пространство исторических реалий, где непрерывно, как полагал английский историк Т. Карлейль, идет смертельная «игра эгоизмов», разум вынужденно становится активным участником этой «игры», в том числе и в команде победителей, т.е. более сильных. К тому же основная сила победителей чаще всего – ложь, упакованная в сладкую облатку всеобщего счастья. Поэтому разум оказывается еще и невольным заложником подобной «игры».
Какой же «эгоизм» чаще всего побеждает? Тот, который в состоянии подчинить своей воле политику страны, сделав ее своей для народа. В этом смысле любая историческая фигура незаменима. Именно поэтому «тайна истории уходит в тайну личности» [32]. Можем ли мы оторвать политику Чингисхана от самого Чингисхана, наполеоновскую империю – от Наполеона, большевистскую Россию – от Ленина, немецкий национал-социализм – от Гитлера? Мы вольны сколько угодно пинать эти фигуры, но обязаны увенчать их лаврами победившей силы.
Очень популярен, особенно в последнее время, поиск свое-образного центра тяжести в триаде: наука Þ культура Þ история. Таким способом пытаются оценить, что все же приводит в движение исторический процесс? Ответ, само собой, дается разный. Если перевести эти достаточно общие категории в пространство сугубо личностное, проблема еще сильнее обострится, зато станет более предметной.
На самом деле, предположим, вслед за Ю. М. Лотманом [33], что не родились И. Ньютон, А. Эйнштейн, Д. И. Менделеев, М. Планк. Можно не сомневаться – их открытия сделали бы другие ученые, возможно, чуть-чуть позже и в иных странах. Но непременно бы сделали. А не появись на свет В. Шекспир, В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен, Ф. М. Достоевский, П. И. Чайковский, их бы не заменил никто. Человечество не знало бы «Короля Лира», «Вол-шебной флейты», «Лунной сонаты», «Идиота», «Лебединого озера». Культура бы стала существенно беднее. Возможно, это повлияло бы и на мировую историю.