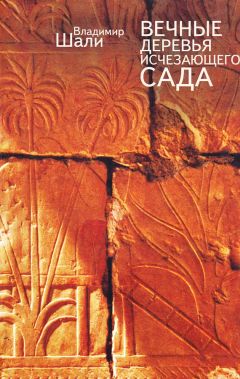Владимир Бибихин - Переписка 1992–2004
Как писали в девятнадцатом веке,
Believe me always your affectionate friend,
Верьте моей неизменной сердечной дружбе,
О
2003
20 марта 2003
Тема: «Ужасные вещи»
Дорогая Ольга Александровна,
ни разу не пришлось пока пожалеть что установил email. Уверен, что у Вас со временем всё наладится.
All best
вб
P. S. В кормчих книгах формула Модестина из Дигест «Брак есть союз мужа и жены, общность всей жизни, единение божественного и человеческого права» (Дигесты Юстиниана, М. 1984, с. 370) переведена так: «Брак есть мужеви и жене сочетание и сбытие во всей жизни, божественныя же и человеческия правды общение». Понимать здесь сбытие как кальку, наверное не очень удачную, или это что‑то оригинальное?
Приложение Ужасные вещи[10]1. В 20 веке человек чувствует теснящее присутствие ужасных вещей. Разные для разных людей, они одинаковы тем, что все не под силу индивиду. О них иногда говорят, что они так жутки, что делают 20 век особенным, небывалым, когда традиционные формы противостояния злу уже не работают, и так далее. Из‑за общего стирания религиозной картины мира ужасные вещи переняли многое от того, что раньше относили к нечистой силе. Когда Черчилль называл Гитлера bad man, то характерным образом даже для опытных переводчиков было не совсем ясно, имеется ли в виду просто бандит или все‑таки дьявол. В целом трансцендентные силы как причина ужасных вещей отходят на второй план, как трансценденция вообще.
Для массового западного человека ужасные вещи происходили в Германии, в Китае, в России, в архипелаге Гулаг, в Камбодже, для единиц интеллектуалов — среди бела дня в Париже, в Алабаме. Для российского диссидента они были близко, для массы населения СССР — может быть в Америке, в Южной Африке. Ужасные вещи небывалого и жуткого свойства, составляющего уникальную особенность нашей эпохи, приближаются или отдаляются. Всегда слышны предупреждения, что они могут наступить вдруг, и общее настроение таково, что предупреждениям верят. Все ощущают себя подставленными. К ужасным вещам принадлежит ядерная война, отравление атмосферы.
Для Алексея Федоровича Лосева в том возрасте, в каком я его знал, с опытом следствия, тюрьмы, исправительных работ, увольнения с места работы, ужасные вещи уже победили и оттеснили его в сторону. Они были абсурдны и неодолимы, в общем связывались с новым режимом.
При царе — не то… Ну, было два — три врага, делали пакости… были случаи, исключали. но такого озверения не было.
— Может, вы были не в том кругу, где все это видно?
Нет, я был среди. Нет, надо делать, как Эпикур говорил: никого не люби и никого не ненавидь. СНи с кем не спорить. Ну, и будут думать, ну, чего там, сидит там, занимается, ну и пусть занимается. А играть роль. Сейчас в каждом институте идет травля кого‑нибудь. В каждом институте! (4.8.1970)
На Западе сейчас этому настроению отчасти соответствует самочувствие философов, писателей, что они живут как индейцы в резервациях. Для Лосева ужасные вещи прочно, может быть на века, укоренились с революции.
Я из Донской области, Новочеркасск. Был там в середине 30–х годов. Виноградная область — одна бабка сидит с виноградом. Дома заколочены, как еще с гражданской войны. Все кадровое казачество ушло с Врангелем. Напрасно боялись. (4.8.1970)
Теперь вот был бунт в Новочеркасске. Бесполезно. Америка перед нами трепещет, а тут какой‑то городишка. Нет, теперь уже поздно.
Я там (на родине) впервые появился в 36–м году, и зря, что появился, потому что кроме слез ничего не было. (28.4.1976)
Озверение. Бороться с ветряными мельницами нельзя Отшибет…
О свободном выборе мысли, занятий теперь уже не могло быть речи. Запрет не мог казаться обтекаемым для человека, который был до кости обожжен ужасными вещами, так сказать, раз навсегда научен, как овчарка, которую дрессируя до полусмерти ударили. «По зубам бьют. Зашибут». О свободе остались воспоминания другой невозвратимой эпохи, к которой нет даже мысли стараться вернуться.
Я слушал Бердяева еще когда был мальчишкой; ну, все же на разные собрания ходил. Огромное впечатление. Блестящий оратор. Читать его? Даже если не разделяешь всех взглядов, всегда полезно приобщиться к гению. Но ведь нет книг. да и опасно, ведь опасно — не читать, а держать книги. За это ведь преследуют. Нет, я не люблю, когда скрываться. Урывками читать, по ночам — не интересно. Надо серьезно, чтобы продумать. углубиться. Он ведь написал книг не три, не четыре, а пятьдесят. (29.9.1970)
Поворот к ужасу — это судьба. Такова эпоха.
50 миллионов погибли в лагерях в сравнении с 3000 Робеспьера. Не снабжали во время войны. В чем дело? тип людей виноват? Нет, всякого типа люди. Чичерин — дворянин. Ленин — дворянин. Всё: такой период истории — алогический, зверский. Дирижер управляет палочкой, Ленин — оглоблей. Куда повернет. Оглобля — Сталин. Частый тип. (25.7.1971)
Между гипотезами, что общество переживает болезнь, и другой, об исторической катастрофе, Лосев склоняется ко второй. Или, если болезнь, то дурного, психического рода, когда нет природного процесса ослабления и потом укрепления организма. Ему казалось, что он сам страдал от разлитой в воздухе беды.
Плохо спал. Только пол — седьмого заснул. Психика. Она же играет человеком. Но сама прячется, прямо никогда не скажет, делает вид, что она не при чем. (30.9.1871)
Я вот думаю, что это я из‑за того не спал, что слушал вчера потрясающую вещь. Передавали Солженицына «Август 1914–го».
Я слушал от 11 до 12 ночи. Было уже передач 8 или 9, и эта была о самоубийстве Самсонова.
Оказывается, в армии был страшный развал. Я как‑то думал, что, хотя везде был развал, но наша военщина стояла крепко. А тут оказывается. Солженицын хочет показать, как дошла Россия до теперешнего положения, и начало падения видит именно в четырнадцатом годе.
Самсонов показан честным демократом, патриотом. Но — кругом него такая неразбериха, так непонятно, что делать.
Шпионство повсюду. Нет просто карт. Он отчаялся. И вот его встреча с воронежским полком. Уже в нем ничего не было начальнического. — А? Воронежцы? Да, да, герои. Ну как, куда вы? — Да мы, вот, хотели взять холм, да немец не пускает. — Не пускает? — Да, да, не пускает. — Ничего не сказал и так поехал. Потом снял шапку и стал молиться Богу. Зачем ты послал меня и не дал мне сил. Пулю в голову.
Вот, я думаю, от этого не спал. Но психика молчит. Дескать, мало ли читал таких книг. Ложился — ни о каком Самсонове не думал. Но вот заснул только в семь часов утра.
Я думаю, Солженицын лучше Толстого.
—!?
Толстой, конечно, тоже хорошо описывал, но у него не было чувства всемирного катастрофизма. А у Солженицына оно есть.
Постой, я тебе еще вот что скажу. Мережковский в книге «Толстой и Достоевский» пишет, что Толстой гениален в изображении страстей тела, а Достоевский — в изображении страстей души и ума. А вот это уже я, Лосев, говорю. Солженицын гениально изображает страсти социальные. И в этом ему конечно помогает его время такое ужасное.
Социальные страсти. Я читал как‑то книгу одного француза, «Социальные неврозы». Там он говорит, что война, тюрьмы, преследования — это социальные неврозы. А что в самом деле? Это же невроз, состояние, когда сами себя не понимают, на мелочи реагируют сильно, на сильное мелочно. Как же иначе назвать, если Гитлер берет 60 000 человек и закапывает их живыми в землю.
В Киеве шестьдесят тысяч евреев в одну яму, залили и подожгли
Революция — ужасная мистерия жизни. Ужас революции… Ты спрашиваешь почему. Почему истерик дает по морде? А кто его знает? Истерия штука очень загадочная. Возникают реакции совершенно несообразные. Рядом с этой необъяснимостью у Лосева напрашивается мысль о демоническом, но вскользь.
Моя библиотека. Диявол, наверное. Другой бы на моем месте отчаялся, а я еще несколько томов. Я писал на всех парах, работал, как три вола. А тут мировой дух решил: ша, хватит, товарищ Лосев, подождите еще лет десять, походите по библиотекам, повыписывайте книг. (25.11.1973)
Лосев произносит это слово диавол иронически. Напрашиваясь всем, догадка о демоническом в 20 веке не звучит из‑за имеющихся надежд на то, что человечество светское само может внутри себя в конечном счете установить мир, т. е. из‑за преобладающей веры в отделение церкви от государства. Другая напрашивающаяся мысль, о грехе, Лосеву тоже часто приходила в голову.
Да, невозможная задача, переть против такой махины. Никто не думает о духовности. Только о похоти. Только похоть и осталась, ничего больше нет. (31.5.1974)
Мысль о том, что достаточно подняться от порока и ужас развеется, была ему далека. Преобладало ощущение неотменимой судьбы, охватившей все человечество. Соотношение доброкачественных и недоброкачественных людей осталось прежним, всегдашним. Но из‑за плохого поворота судьбы восстановление нормы в нынешних неблагоприятных условиях потребовало бы изменения человеческой природы. У Лосева не было идеализма чтобы на такое надеяться.