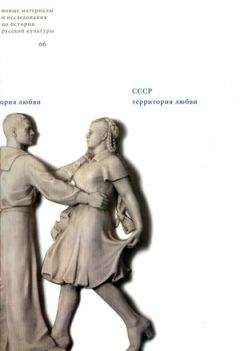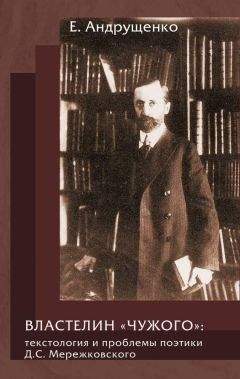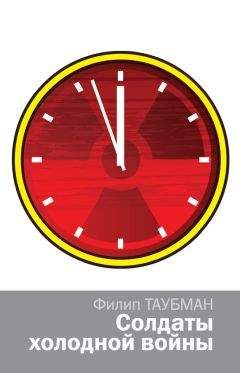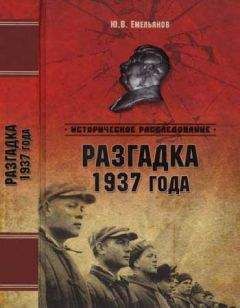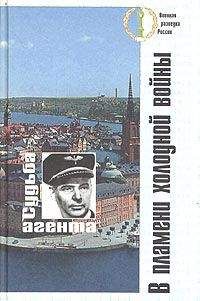Елена Андрущенко - Властелин «чужого». Текстология и проблемы поэтики Д. С. Мережковского
«Надеюсь, что проснувшийся интерес к Мережковскому не приведет к другой крайности – к преувеличению его художественной значимости. На мой взгляд, он не был великим писателем, но многие его произведения обладают своеобразной прелестью» [218] .
Эти слова относятся к первой трилогии, «Христос и Антихрист», но признаемся: многое в его творчестве включает в себя двойное кодирование и, вероятно, сегодня было бы названо «миддл-литературой». Современное литературоведение выявило и осмыслило то, что обращено к читателю образованному, которому были внятны религиозно-философские искания писателя. Речь идет о символистской концепции, о культурных коннотациях, о мифологическом, библейском, философском подтекстах, о сложных интеллектуальных конструкциях, соединяющих все его произведения в единый «текст» и пр. Но то, что обращено к самому широкому кругу читателей, связано с горизонтом их представлений и ожиданий, до сих пор как-то оставалось вне поля зрения. Как справедливо пишет О. Коростелев,
...«Нынешнему читателю порой трудно поверить, что в начале века Мережковского многие считали первым писателем России, более того, одним из первых писателей Европы. Авторитет его на Западе был едва ли не больше, чем в России. Он переводился на все европейские языки и был известен как своими историческими романами, так и критическими эссе, и публицистикой» [219] .
Тиражи, которыми издавались, например, романы его первой трилогии, доходили до трех – шести тысяч экземпляров, что по тем временам было довольно много для литературы «высокой». «Вечные спутники», которые, в этой связи, также нельзя не назвать, печатались в количестве от трех до десяти тысяч (!) экземпляров. Тома первого собрания его сочинений 1911 г. выходили в свет в количестве пяти тысяч, даже отдельные издания «Павла I» и «Макового цвета» издавались в количестве двух тысяч экземпляров. Д. Мережковский был писателем очень популярным. Это сказалось даже на тираже его последнего собрания стихотворений (1910) – пять тысяч экземпляров, когда стихов он уже не писал.
В то же время тиражи сборников стихов, например, К. Бальмонта, не превышали тысячи двухсот экземпляров, лишь последнее, опубликованное в издательстве «Скорпиона», «Полное собрание стихов» (1908–1913) в 10 томах печаталось в количестве двух тысяч каждого тома. Его известная книга статей «Горные вершины. Искусство и литература» (1904) вышла в свет в количестве полутора тысяч экземпляров, «Белые зарницы. Мысли и впечатления» (1908) – двух, и лишь «Испанские народные песни. Любовь и ненависть» (1911) – четырех тысяч. Первое собрание сочинений Ф. Сологуба («Шиповник», 1909–1912) в 12 томах выходило от полутора до трех тысяч четырехсот экземпляров, причем тираж к последним томам снижается, а «Собрание сочинений», вышедшее в свет в издательстве «Сирин» (1913–1914), печаталось в количестве двух тысяч. Полное собрание сочинений и переводов В. Брюсова в 25 томах (1913) публиковалось в количестве двух тысяч ста экземпляров каждого тома, «Огненный ангел» (1908) – восьмисот экземпляров, книга «О искусстве» (1899) – пятисот, «Испепеленный. К характеристике Гоголя» (1909) – четырехсот, а второе издание – восьмисот экземпляров. Книга Д. Мережковского «Гоголь и черт» (1906) в первый раз выпускалась тиражом тысяча восемьсот, а второй – под названием «Гоголь. Творчество, жизнь и религия» (1909) – уже три тысячи двести экземпляров. Сопоставление, вероятно, не будет корректным без З. Гиппиус. Тиражом три тысячи экземпляров были напечатаны только пятая книга ее рассказов «Черное по белому» (1908) и «Литературный дневник (1899–1907)» (1908), тиражи остальных отдельных изданий едва доходили до полутора тысяч.
Коммерческий успех позволяет говорить о степени популярности писателя, свидетельствуют о ней и отклики читателей. Обычно исследователи обращаются к мнению читателя, так сказать, просвещенного – критика, рецензента, и в работах о Д. Мережковском подобных откликов приводится довольно много. Гораздо сложнее дело обстоит с отношением к творчеству писателя читателя «обычного», т. е. интеллигентного, читающего, интересующегося, того из числа трех-десяти тысяч человек, на которого были рассчитаны тиражи. Одним из первых вопрос в подобной плоскости сформулировал О. Лекманов. В блестящей статье «Шустовский спотыкач, мюнхенское пиво и Д.С. Мережковский» он пишет о рекламном слогане 1912 г., в котором имя писателя использовалось для продвижения на рынок Шустовского коньяка [220] . Несмотря на то, что декадентская стилистика в те годы уже была чужда Д. Мережковскому, в массовое сознание он вошел именно как писатель-декадент, автор нескольких широко известных стихотворений, в том числе и «Сакья-Муни» (текст которого знал наизусть даже Л. Брежнев), и как носитель некоей недоступной всякому смертному высшей истины. Свою роль в формировании в массовом сознании подобного образа Д. Мережковского играла, прежде всего, его историческая беллетристика. Э. Бацарелли говорил, что
...«…когда-то он нравился петербургским и московским дамам, любившим порассуждать о декадентстве и символизме, о культуре Италии и красоте Чезаре Борджа» [221] .
Речь идет о романе «Воскресшие боги (Леонардо да Винчи)» (1899), в котором удачно сочетались интеллектуальные искания автора с занимательной историей из эпохи итальянского Возрождения, в центре которой стоит мифологема Леонардо да Винчи [222] . Но и «Вечные спутники» были очень популярны. Как вспоминала З. Гиппиус, выпускникам средних учебных заведений вручали эту книгу вместе с документом об окончании курса [223] . Впечатления от нее зафиксированы в переписке А.А. Кублицкой-Пиоттух с О.М. Соловьевой, которых, конечно, трудно отнести к числу «обычных» читателей, но и профессиональными критиками не назовешь. О.М. Соловьева писала:
...«Прочла я недавно "Вечные спутники" Мережковского. Читала ли ты это? Все, что об Русских – по-моему неинтересно, все остальное – и ужасно интересно, и красиво, особенно понравились мне "Акрополь" и "Кальдерон"» [224] .
Книгу «Л. Толстой и Достоевский» прочел студент А. Бархударов, который воспринял размышления о «тайновидце плоти» как «обвинительный акт» против Л. Толстого. Писатель даже был вынужден ответить своему корреспонденту, что
...«Мережковского и не читал, и судя по тем выпискам, которые вы делаете, читать, а тем менее оправдываться не нахожу нужным» [225] .
Только оказавшись в эмиграции Д. Мережковский столкнулся с тем, что новые произведения не приносят былой популярности. Ю. Терапиано вспоминал, что
...«…в некоторых французских кругах, интересующихся духовными вопросами и метафизикой, Мережковскому удалось найти союзников и последователей, русские же слушатели, в большинстве, оставались к его проповеди равнодушными. Брали в Тургеневской библиотеке и перечитывали "Леонардо да Винчи" и другие его прежние книги, с удовольствием слушали его действительно блестящие выступления в "Зеленой Лампе", но к книгам, написанным Мережковским в эмиграции, – к "Тайне Трех", к "Атлантиде", к "Иисусу Неизвестному" и к "Ликам святых" относились даже с некоторой опаской – "Бог знает что стал писать на старости лет, непонятно!"» [226] .
В дореволюционном творчестве он стремился выйти к пониманию глубинных основ бытия, но хотел быть понят и принят, потому делал это, в общем-то, доступно. Ему всегда удавалось нарушать установку модернистов на обращение к избранному кругу и удовлетворять запросы широкого слоя образованных читателей. В эмиграции он, видимо, не сумел учесть особенностей их ожиданий. Они оказались в изгнании и тосковали по родине, хотели утолить ностальгию обращением к тому, что было с ними в прошлом. Новые произведения популярного писателя уж слишком отличались от написанного им в России.
Отношение Д. Мережковского к тексту побуждает говорить о том, что он в каком-то смысле предвосхитил некоторые особенности постмодернистской поэтики. Постмодернизм, как известно, снимает со– и противопоставление реальной действительности и литературы, утверждая, что связи между ними не существует: литература делается из литературы, не выходя к событиям жизни. Д. Мережковский, произведения которого «сделаны» из литературы, этого противоречия не снимает, но ощущает, что литература – в конце пути, накануне грядущих катастроф – почва куда более надежная, чем действительность. И он обращается именно к ней, в конце жизни даже подчеркивая, что уже не сам он говорит, а за него говорят вся мировая литература, наука, культура, традиция. Разумеется, это не постмодернизм, но подобное отношение к тексту является связующей нитью между модернизмом и постмодернизмом, что в случае с Д. Мережковским проявляется особенно наглядно. В отличие от постмодернизма, писатель декларировал позитивную идею, религиозную по своей сути, и предпринимал попытку реформировать действительность средствами литературы. В эмиграции он потерял надежду на то, что это возможно, и сравнивал свои произведения с письмом в бутылке, брошенной в море.