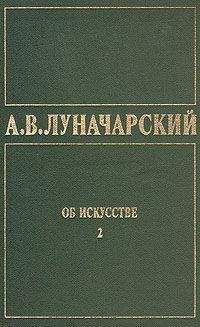Алексей Смирнов - Антология публикаций в журнале "Зеркало" 1999-2012
Неоскверненные старообрядческие часовни я встречал только в Карелии, где население целиком бежало от финнов. В своих одиноких скитаниях я частенько ночевал в них, предварительно очистив березовым веником полы от засохших листьев и узенькие, как бойницы, рубленые окошечки от обломков птичьих гнезд. Один раз я нашел в такой часовенке тело мертвого старика-охотника, усохшего, как мумия. Я вырыл ему в песке кинжалом неглубокую могилу и завалил ее от лис и енотов огромными валунами. В часовню хищники почему-то не вошли и тело не тронули. Но когда я ночевал там, куницы, хорьки и лисицы забегали в помещение и смотрели на меня и даже иногда обнюхивали. До сих пор помню их черные глазки и мокренькие носы.
Большевистский Тургенев – разрешенный советами писатель Михаил Михайлович Пришвин. Его низкорослая русоволосая толстая дура-жена держала одно время на Арбате масонскую ложу, где собирались лубянские провокаторы. До революции Пришвин написал о русском Севере хорошую книгу “В краю непуганых птиц”. Он тогда жил в Дорогобужском уезде Смоленской губернии, был женат на старообрядке и имел от нее детей. В революцию Пришвин бросил семью и бежал в Москву к масонской толстожопой дуре, переписывавшей его рассказы о перепелках и кротах. Бывшая жена и дети голодали, питаясь корнями и лесными орехами.
Сестра моей бабки по матери работала главным врачом дорогобужской земской больницы, и Пришвин – бородатый, в болотных сапогах – приходил иногда к ней читать свои рассказы, пожирая при этом ее сахар.
Старая Россия, к сожалению, погибла без остатка, и “Роза мира” – это изысканный андреевский Белый Лотос, выросший в воронке от взорванного храма Христа Спасителя или оскверненного красным зверьем храма в любом другом губернском городе. Из-под листьев андреевского цветка торчали ржавые прутья, изломанные и сгнившие в сапогах человеческие кости, проломленные черепа. Да и сам автор “Розы мира” был с очень большой ржавчиной в мозгах. Его индуистская абракадабра, которую он подмешивал в любую жидкость, – это чаша с крюшоном, в который подмешаны ржавые кривые гвозди и острая металлическая стружка. Другого пойла нет, и приходится невольно читать, ломая язык о новоязовские изобретения. Да, к сожалению, другого такого коктейля больше в России не будет – его писал сочинитель из той, старой, России, откуда больше уже не раздастся ни одного голоса.
Помню, я как-то завел разговор о Галине Кузнецовой с ее многолетним сожителем, почти мужем, Вадимом Леонидовичем Андреевым, с чьего тюфяка она и переехала на бунинскую грассовскую перину. Вадима Леонидовича такой оборот речи неприятно поразил, он зло на меня посмотрел, потом улыбнулся и сказал смешливо: “Я забыл, что вы еще молоды и еще практикуете. Кое-что я вам скажу. Галя была из Киева, где смешана польская, украинская и еврейская кровь. Эротически она была не слишком требовательна, молодыми людьми сильно не увлекалась, зато у нее были весьма опытные подруги. Человек органически литературный, она много читала, понятие “русский писатель” для нее значило очень много. Я всю жизнь писал стихи, а надо бы было прозу, но (и тут он сказал важную для меня вещь. – А.С.) мы все боялись оскорбить русский народ, в высшую роль которого мы все излишне долго верили. А как можно писать прозу, боясь оскорбить партнера? Это невозможно”.
“Ну а старик?” – спросил я его о Бунине. “Он ревновал меня к моему прошлому с Галей; и потом – он не любил моего отца и завидовал ему, его славе в России, которая была почище чеховской, а он был так – орловский дворянчик в картузике. В привычках своих он был вполне приличен и даже доброжелателен, но прошлого не забывал никогда. Он вообще был злопамятным, я бы даже сказал, органически недобрым человеком. Был один случай (Вадим Андреев махнул рукой), когда он меня довольно несправедливо оскорбил и смотрел на меня своими глазищами – съем я или не съем? Я съел, и с тех пор он стал вежлив даже излишне”.
“А как у него было с евреями?” – пристал я. Вадим Леонидович расхохотался: “Это целая сказка! Ведь это евреи добыли ему Нобелевскую премию, которую он так молниеносно прожил в Грассе. Евреи Бунина любили, и он любил евреев. Как ни приедешь в Грасс – на террасе Бунин с целым сообществом евреев, все хохочут, всем весело. Потом он долго жил в Одессе, в Крыму, в Ялте – там полным-полно евреев, греков, армян. – Вадим Леонидович вдруг замолчал. – А вот у Чехова с евреями дело было трудное. Он их никогда не трогал, был с ними очень вежлив, но смотрел на них с тоской и печалью и после их посещений часто тосковал и все вспоминал несчастного Левитана. Это я вам первому говорю. К тому же я не один раз видел, как Бунин засовывал в карманы пачки денег, которые без отдачи давали ему евреи. Но в своих произведениях Бунин о евреях ничего не писал, ни хорошего, ни плохого. А Чехов один раз описал еврея-паломника в монастыре, и сделал это хорошо. Мы с Буниным несколько раз говорили о евреях, тем паче что я ехал в Америку – страну еврейскую с его точки зрения, и он мне дал немало советов, как себя вести с евреями. Старик имел очень большой опыт в этом деле”.
В это время мы подходили к ресторану, где собирались ужинать, и Вадим Леонидович закончил нашу беседу так: “Галя очень жалела Старика и все ему прощала, а с Верой Николаевной, эмансипированной барыней и сумасбродкой, было довольно тяжеловато даже самому Ивану Алексеевичу, хотя он к ней привык, как к любимому халату, пропахшему табаком. – Он немного помолчал и продолжил: – А для меня Галя – это молодость, и в ней было много хорошего и чистого. Это вы когда-нибудь поймете. Она была как будто из воска: из нее все всё лепили, а потом все распадалось”.
У странных писателей часто бывают странные сыновья, у них обычно нет зоологически цепкого дара отца, но на мир они смотрят шире, умнее и терпимее, и обычно у них у всех страшные судьбы, переломанные, как кухонная мебель в неблагополучной семье, участие в чужих эпопеях и событиях. И самое страшное – они выпадают из своего времени и своей судьбы. Взгляните на семьи Цветаевой, Андреева, Горького, Есенина и т. д. Этого нет только у еврейских писателей – они древние люди книги, а славяне все интеллигенты в первом поколении, несмотря на рыцарские гербы в прошлом.
Я этот давний разговор с довольно чуждым мне человеком и не вспомнил бы, если бы не зверское сходство с его покойным братом Даниилом. Я познакомился с ним в солнечный весенний день на улице около фонтана; тогда в Москве еще иногда бывало уютно и даже не противно присесть возле пушкинского памятника с лицом африканской усталой задроченной бабами и поэзией обезьяны. Разговор этот интересен тем, как двое людей очень разных возрастов, судеб и взглядов, но все-таки сохранивших традиционную русскую вежливость и мягкость (была такая, ныне совершенно забытая, мягкость общения людей определенного уровня и культуры), говорили о женщине, закоренелой лесбиянке, которая была любовницей одного из собеседников и давно умершего друга его покойного отца, уже стариком отбившего у сына своего приятеля любовницу, годящуюся ему в дочери. Конечно, не очень удобно мне было затевать этот разговор, но он был мне любопытен не из-за “клубнички”, а потому, что эта история весьма напоминает роман жены Пушкина с Дантесом.
Иван Бунин был последним крупным русским писателем – на нем российская словесность закончилась, около его разложившегося и растекшегося тела развелось нескончаемое число русскоязычных писателей. Чехов сказал: “Вот Толстой умрет – и все кончится”. – “А что кончится, Антон Павлович?” – “Все кончится”, – ответил Антон Павлович. Ну а потом умер Бунин, описывавший осенний дождик лучше, чем сам Толстой, в чем он признавался. Вот я и приставал к Вадиму Леонидовичу, давнему знакомому Бунина и сожителю их общей любимой женщины.
Из этой беседы я понял очень важную вещь – оба эти интеллигента не хотели иметь ни семьи, ни детей. Этого же не хотела и лесбиянка Галя Кузнецова. Во время нашего разговора она, кстати, была еще жива и доживала свой век на крохи, перепадавшие ей в системе обслуживания ООН. Там, пока был цел СССР, всегда кормили такие человеческие обломки – авось понадобятся на всякий случай.
Насчет живучести СССР ошибались – на поверку он оказался огромной армией алчных номенклатурных воров в погонах и без погон. Всегда были страшны рожи на мавзолее, но теперь среди самых богатых людей страны появились физиономии чисто апокалиптические, взглянешь – вздрогнешь. Я почти перестал смотреть телевизор: сплошной поток кровавого насилия и высокопоставленной шпаны носит тотальный характер.
В современном эрэфовском безвременье, при полном одичании и безмозглости населения, возможно абсолютно все. И больше всего попахивает новой Мариной Мнишек с новым “воренком”. Великая княгиня Мария Владимировна Романова-Гогенцоллерн, разведенная жена принца Прусского и мать его сына, тоже претендента на два имперских престола, дама телом массивная, подвижная, чернявая, разбитная, которая была бы идеальной хозяйкой бара где-нибудь на юге Германии или около Одессы, – тоже не прочь поцарствовать. Она особа симпатичная, ловкая, умеет с мужиками поговорить. А вот ее мать – оплывшая старуха, княгиня Багратион-Мухранская-Романова – дама со страшенной политической биографией. Ее папаша, проигравшийся армейский офицер князек Георгий Багратион-Мухранский, женился на дочери богатого тифлисского еврея Золотницкого, и от этого брака родилась дочь Леонида, толстенная девица с пальцами, как сосиски. Оказавшись в Европе, она вышла замуж за еврейского банкира Кирби, человека, близкого банкиру Якову Шиффу, наставнику Льва Троцкого. И вместе с Шиффом он продавал барахлишко убитых Романовых. Потом Леониду Георгиевну вербует ОГПУ, и Кирби, узнав об этом, разводится, а Леонида Георгиевна охмуряет Великого князя Владимира Кирилловича, чахлого, худенького и слабохарактерного. И у них рождается нынешняя Мария Владимировна, дама-танк, у которой, кстати, красивые романовские глаза при очень южном подвижном теле.