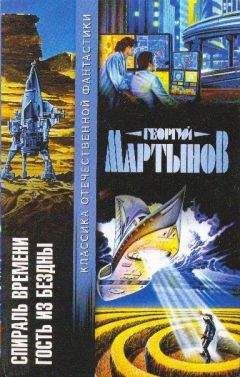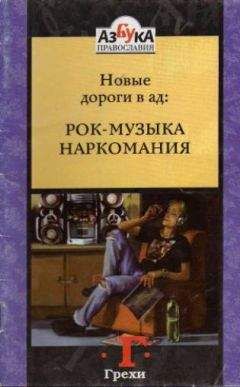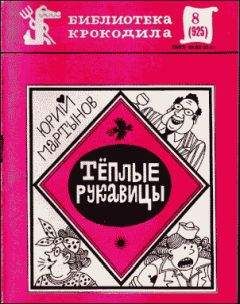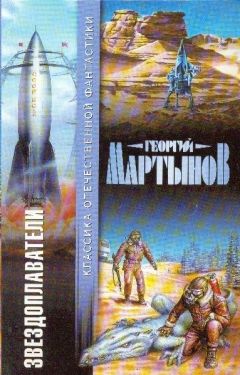Владимир Мартынов - Зона opus posth, или Рождение новой реальности
Однако этим дело далеко не исчерпывается. Ведь само слово «opus», фактически давшее название opus–музыке, самым непосредственным образом связано с печатным изданием нотных текстов и, стало быть, напрямую выражает идею визуализации. Opus–музыка — это не просто музыка, существующая в виде нотного текста, это музыка, существующая в виде печатно опубликованного и растиражированного нотного текста, и поэтому opus–музыку можно рассматривать как специфическую визуальную среду — среду нотопечатных текстов. Любое проявление музыки, не вошедшее в состав этой среды, не охваченное этой средой, наконец, не ставшее этой средой, начинает почитаться попросту несуществующим. Даже рукописно зафиксированное произведение воспринимается как нечто, не вполне осуществленное. Рукопись, «лежащая в столе», — это не просто нереализованная музыка, это несуществующая музыка. Только печатное издание рукописи дарует подлинное существование музыкальному произведению. Только печатное издание удостоверяет в том, что это действительно музыкальное произведение, и только печатное издание выдает санкцию на его звучание — именно в этом и заключается суть текстоцентризма opus–музыки.
Развитие и распространение нотопечатания приводит к абсолютизации таких категорий, как автор и произведение, ибо наличие сотен и тысяч совершенно одинаковых экземпляров, содержащих текст одного и того же произведения, порождает совершенно новое переживание этих категорий. Одно произведение, одинаково, неизменно и одновременно пребывающее сразу в тысяче экземпляров, начинает восприниматься как нечто трансцендентно–априорное и раз и навсегда данное. При этом начинает абсолютизироваться сама идея автономного, самого на себя замкнутого произведения как единственно возможной формы существования музыки. То же происходит и с автором. Идея авторства превращается в трансцендентную и даже в какую–то мистическую категорию, несущую на себе отсвет представления о гении, а единая авторская воля, растиражированная в тысячах экземпляров, неукоснительно, в неизменном виде доводится до каждого из обладателей данного нотного издания. Абсолютная незыблемость категорий автора и произведения юридически закрепляется в институте авторских прав, и отныне любое посягательство на авторскую собственность начинает преследоваться законом, что превращает автора в полноценный субъект производственносоциальных отношений. Все это вместе взятое приводит к беспрецедентному возвеличиванию фигуры композитора. Композитор становится доминирующей фигурой в музыкальной жизни, в которой уже не может иметь места ни фигура менестреля, ни какое бы то ни было проявление устной традиции вообще. Если раньше, в эпоху рукописной фиксации нотных текстов, устная менестрельная традиция не просто сосуществовала с письменной композиторской традицией, но занимала доминирующие позиции в живой музыкальной практике, то с распространением нотопечатания традиция менестрелей не только утрачивает былые позиции, но превращается в какой–то низший, маргинальный тип музыки. Отныне музыкант, «не знающий нот», не умеющий письменно зафиксировать то, что он делает, — это неполноценный музыкант–дилетант, и ему нет места в нотопечатной индустрии opus–музыки. Нотопечатание возводит письменную фиксацию музыки в ранг закона, и все, что не охватывается этой письменностью, фактически оказывается вне закона. В результате композитор, как «человек пишущий», оказывается единственным «игроком на поле» и получает музыку в полное монопольное владение.
Но поскольку господство композиторов над музыкой непосредственно связано с индустрией нотопечатания, то и продолжаться оно может только до тех пор, пока книго–и нотопечатание будет оставаться основным и единственным способом хранения и передачи информации, или, как выразился бы Мак–Люэн, до тех пор, пока существует галактика Гутенберга. Распад галактики Гутенберга, по мнению Мак–Люэна, был теоретически зафиксирован в 1905 году, с открытием искривленного пространства, но практически уже двумя поколениями раньше она начала рушиться под натиском телеграфа. Возникновение принципиально новых средств коммуникации — радио, телефона и телеграфа знаменует собой конец эры Гутенберга и начало новой, электронной эры — «эры Маркони». Тенденцией новой эры является постепенная утрата сферой визуального опыта своего доминирующеего положениея и замещение ее места сферой слухового опыта, в результате чего происходит возрождение форм, свойственных племенному, дописьменному сознанию. Новые средства коммуникации приводят к возникновению новой общности и новой взаимосвязанности людей, и эта новая электронная взаимосвязанность, по выражению Мак–Люэна, «возвращает мир к ситуации глобальной деревни». «В двадцатом веке происходит встреча алфавитного и электронного ликов культуры, и печатное слово начинает служить тормозом в пробуждении Африки внутри нас»[69]. Однако сколь бы ни была сильна инерция письменного, алфавитного сознания, «пробуждение Африки внутри нас» так же, как и возвращение к ситуации «глобальной деревни», с каждым годом уходящего XX столетия заявляют о себе все более и более явственно.
В области музыки ослабление линейно–алфавитных форм сознания с наибольшей яркостью проявилось в разрушении принципа партитуры, наблюдаемом в творчество целого ряда композиторов–авангардистов 1950–60–х годов. Разрушению подлежала как вертикальная координация, сводящая отдельные партии в единое целое, так и принцип линейного последовательного изложения. Разрушение вертикальной координации приводит к тому, что каждая отдельно взятая партия партитуры освобождается от жестких вертикальных связей с другими партиями, в результате чего все партии начинают жить своей собственной, «эмансипированной» жизнью, в своем собственном, независимом времени, обусловленном собственной метрической сеткой. Эта вертикальная раскоординация партитуры является следствием исчезновения единой фиксированной точки зрения, вместо которой возникает множество одновременно существующих точек зрения, чье количество обусловлено количеством партий, освобожденных от вертикальной зависимости. Наличие множества точек зрения приводит к динамической симультанности переживания, свойственной плоскостным иконным изображениям и раздельно написанным партиям допартитурных нотных текстов. С исчезновением фиксированной точки зрения связано и разрушение единой линейной последовательности изложения. Графическая горизонталь партитурного пространства разбивается на отдельные фрагменты, или «моменты» (как их определял Штокхаузен), которые могут исполняться в любом порядке с любым количеством повторений, в результате чего линейная векторнонаправленная, или «алфавитная», картина времени сменяется одновременным наложением разнонаправленных временных векторов, образующих некое «поле временных возможностей». Именно такое положение дел имел в виду Мак–Люэн, когда говорил о том, что «современный физик уютно чувствует себя в пространстве восточного поля»[70]. Подобно тому, как современная «постгутенберговская» физика возвращает к жизни целый ряд архаических представлений, в той же степени и современная «постпартитурная» музыка начинает тяготеть к дописьменным «племенным» формам музицирования. Такие произведения Штокхаузена, как «Гимны» или «Телемузыка», могут служить блестящей музыкальной иллюстрацией к мак–люэновской идее «возвращения к ситуации глобальной деревни».
Если партитурный метод записи, как уже говорилось, делает музыку полностью видимой и обозримой, то в результате разрушения принципа партитуры музыка перестает быть обозримой вещью. Графический визуальный образ нотного текста более не представляет полного, адекватного соответствия реальному звучанию и являет собой, скорее, некий указательный знак, определяющий направление, в котором должен протекать предполагаемый музыкальный процесс. Музыка ускользает от жесткого визуального контроля и вновь превращается в данность, которую можно только услышать, причем услышать только в момент данного конкретного исполнения, ибо каждое новое исполнение постпартитурного нотного текста порождает совершенно новую звуковую данность. Применение принципа случайных процессов, открытого Кейджем, приводит к тому, что одно и то же графическое обозначение может иметь бесконечное количество звуковых интерпретаций, ибо связь между графическим знаком и его звуковой интерпретацией отныне отдается на откуп случайности, а это значит, что стихия музыкального процесса окончательно избавляется от oпеки со стороны визуального опыта. Эта эмансипация слуховой сферы является лишним подтверждением правоты Мак–Люэна, писавшего о том, что переход от эпохи Гутенберга к электронной эпохе есть не что иное, как переход из пространства зрения в пространство слуха.