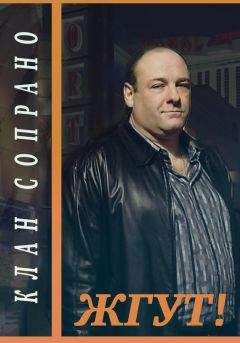Юрий Лотман - Сотворение Карамзина
Весь этот эпизод, который автор «Писем» представляет читателю как реальное событие, имеет чисто литературную природу. Ничего подобного с Карамзиным не происходило и не могло произойти. Карамзин заимствовал весь эпизод из «Газеты европейских революций в 1789–1790 гг.», где он помещен в первых числах апреля 1790 года, а само событие датируется 30 марта, т. е. днем, когда путешественник едва переступил границу Парижа. Чтобы придать событию вероятность, автору «Писем» пришлось перенести то, что в газете датировалось 30 марта, на 28 мая.
Поскольку текст газетной заметки показывает приемы, с помощью которых Карамзин конструировал «эпизоды», приведем его полностью: «30 марта на улице Сен-Мерри было совершено одно из тех обдуманных самоубийств, примеры которых мы находим только в Англии.
Некто Вилетт, слуга, в возрасте 26 лет, примерной честности, был человек прилежный в выполнении всех своих обязанностей. Не имея никаких склонностей, он накопил довольно значительные сбережения. Он никогда не выходил из дома и проводил то свободное время, которое у него оставалось от исполнения своих обязанностей, за чтением книг хорошего содержания. 10-го последнего месяца он написал завещание и приложил к нему письмо, в котором объявлял, что он незаконнорожденный, что его воспитала бедная женщина, вскормила вместе со своими детьми, что он благодарен ей и что он помогал ей всеми возможными для него средствами. В одном диалоге своей души с Богом [229] он мотивирует свое решение покинуть жизнь соображениями, которые находятся у Руссо и Сенеки. Он сообщает, что свое состояние слуги он переносил с отвращением, поскольку считал его бесконечно унизительным. Он прощается с великодушным третьим сословием, дворянством, которое должно быть счастливо милосердием своих победителей, и духовенством, которое он призывает отвергнуть свои одеяния и свои привилегии. Он заключает благодарностью своим господам, к которым он очень привязан за их заботы и их внимательность. В адрес своих хозяев он произносит настоящий панегирик. В день его смерти ни в выполнении им своих обязанностей, ни в его лице не было заметно никаких изменений. Когда хозяева улеглись, он удалился в свою комнату. Он привел свои дела в полнейший порядок и положил на стол запечатанное завещание, в котором он назначил своим наследником одного из детей своей приемной матери, которого он называет своим братом. Утром он написал ему, сообщая о своей смерти. Своей матери, которой, как он писал, он более благодарен, чем ее собственные дети, он послал 132 ливра. Совершив все распоряжения, он взял лист бумаги и твердой рукой внес дополнения в свое завещание. Он назначил 100 ливров на патриотические цели, 48 ливров обществу материнства, 48 для бедняков дистрикта, 48 ливров на пропитание заключенным в тюрьмах, 12 ливров на чай тем, кто будет предавать его тело земле. Он положил каждую сумму серебром в отдельный ящичек. Внизу листа он приписал слегка дрожащей рукой: «Скорее, должно отправляться в путь». Затем он размозжил себе голову из пистолета. Он запер дверь на задвижку, но сначала прикрепил к дверям снаружи листок с надписью крупными буквами: «Самоубийца».
Несчастного обнаружили распростертым на полу, плавающим в крови, с пистолетом в руке и прикрепленной к нему запиской:
Quand on n'est rien et qu'on est sans espoir,
La vie est un opprobre et la mort un devoir [230].
Другой пистолет с таким же девизом был наготове. На стене комнаты было написано крупными буквами: «Сегодня моя очередь — завтра твоя» [231].
Обнаружив источник, мы можем сразу же сделать несколько выводов. Прежде всего, это подтверждает, что Карамзин в Париже читал газеты. В том же номере сообщалось о прениях в Национальной ассамблее и публиковался подробный отчет заседания. Кроме того, выясняется, что Карамзин читал в Париже и старые газеты. Он стремился не только узнать новости, но и представить себе весь ход событий. Это чтение будущего историка. Более того, Карамзин, видимо, читал газеты с карандашом и пером в руке. Сообщение о слуге-самоубийце он явно пересказывал не по памяти. В этом убеждает то, что он сохранил ошибку в цитировании Вилеттом хрестоматийно известных строк из Вольтера, точность в перечислении завещанных сумм и проч. Однако сомнительно, чтобы Карамзин вез с собою в Москву все прочтенные им парижские газеты. А еще В. В. Сиповский бесспорно установил, что текст «Писем» создавался в Москве. Вывод может быть только один: читая газеты в Париже, Карамзин делал заготовки — выписки или вырезки — для будущей книги. Он не «просматривал» газеты, а работал над ними.
Наконец, сопоставляя эти тексты, мы попадаем как бы в творческую лабораторию Карамзина. Кроме уже отмеченного — конструирования якобы реальных эпизодов на основании книжных и газетных источников, мы можем наблюдать, как Карамзин перестраивал и преображал исходный текст. Почему Карамзина заинтересовал именно этот эпизод и как он связан с его размышлениями о проблеме самоубийства, речь пойдет далее.
Кроме газет, Карамзина, очевидно, интересовали книжные новинки. Представив его роющимся в книжных лавках Парижа, листающим выложенные на прилавках букинистов вдоль Сены тома и набивающим карманы брошюрами и альманахами, мы не рискуем погрешить против истины.
Рассказ Ф. Глинки о том, как Карамзин показывал ему прекрасную библиотеку, якобы собранную им в Париже на деньги, сэкономленные ценой отказа от ужинов, следует считать апокрифическим: Карамзин, конечно, привез из-за границы книги, но Федор Глинка их видеть не мог, так как познакомился с Карамзиным в конце 1810-х годов в Петербурге, а все книги писателя сгорели в 1812 году в Москве. Карамзин мог только вспомнить о своей старой библиотеке, показывая Глинке в Петербурге новую. Однако и упоминания книг в тексте «Писем», и критический отдел «Московского журнала» ясно свидетельствуют о том, с какой жадностью Карамзин следил за каждой книжной новинкой.
Видимо, не меньше Карамзина занимали сатирические эстампы, в большом количестве издававшиеся в Париже тех лет. По крайней мере, ряд «сценок», якобы подсмотренных путешественником на улицах французской столицы, на самом деле оказываются описанием карикатур и сатирических эстампов той поры. Так, рисуя парижские бульвары, Карамзин пишет: «Тут молодой растрепанный франт встречается с пожилым, нежно-напудренным петиметром, смотрит на него с усмешкой и подает руку оперной девице». Эта, казалось бы, бытовая сценка — воспроизведение гравюры Шатанье, на которой франт и «оперная девица» (определение основано на том, что она смотрит на свою престарелую соперницу через театральную зрительную трубку) с насмешкой глядят на чету престарелых щеголей в костюмах эпохи Людовика XV. Подписи под молодыми франтами: «Какая древность!», под престарелыми петиметрами: «Какая безумная новизна!» Влияние летучих карикатур 1789–1790 годов ощущается и в других местах «Писем». Уже в Твери на почтовой станции Карамзин заметил на стене «карикатуры Королевы Французской и Римского (т. е. Австрийского. — Ю. Л.) императора» (6). Сатиры на «австриячку» и ее брата, императора Иосифа II, — излюбленная тема революционной публицистики. Даже в 1789–1790 годах, когда авторитет «доброго короля» еще редко подвергался публичным нападкам, противопоставление его «австрийской пантере» было почти всеобщим. То, что привлекло внимание Карамзина на почтовом дворе между Петербургом и Москвою, не могло не заинтересовать его в Париже.
Но еще больше его интересовала сама улица, город, где здания, как овеществленная история, соединялись с сегодняшним днем Парижа — шумной толпой, в которой он искал тайну национального характера — ключ к соединению прошедшего с будущим.
«Нынешний день — угадайте, что я осматривал? Парижския улицы; разумеется, где что нибудь случилось, было или есть примечания достойное. Забыв взять с собою план Парижа, который бы лучше мог быть моим путеводителем, я страшным образом кружил по городу, и в скверных фиакрах целый день проездил» (259–260).
Вновь мы сталкиваемся с соединением реальных впечатлений и скрытого, но хорошо продуманного литературного расчета. Карамзин, конечно, действительно странствовал по парижским улицам, ища в их извивах исторических впечатлений и пищи для волновавших его мыслей. Прогулки по улицам Парижа, конечно, навевали совсем другие мысли, чем странствия в окрестностях Лозанны или путешествия через альпийские глетчеры. Там мысли обращались к вечности, на память приходили Геснер и Руссо, здесь все было история и все современность. Здания были оклеены плакатами и призывами клубов, секций разнообразных обществ. Листки эти спорили друг с другом, перед ними шумели толпы читателей и к знаменитым «крикам Парижа» — голосам разнообразных бродячих торговцев, громко нараспев выкрикивавших песни и прибаутки, служившие и анонсом, и рекламой продаваемых ими товаров, — прибавлялись выкрики непрерывного митинга, который тек по улицам столицы Франции.