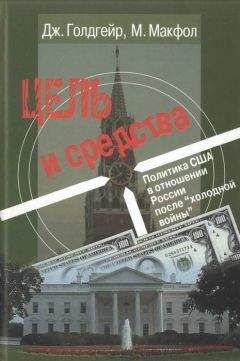Джеймс Биллингтон - Икона и Топор
Заключительный иронический штрих: шведы, которые вначале втянули русских во «всеобщую войну», были наголову разбиты теми же самыми русскими в последней великой битве этой войны под Полтавой в 1709 г. Эта попытка Карла XII нанести поражение далеко превосходящим силам русских на далекой Украине, сговориться с еще более далекими казаками и турками, как-то странно гармонирует с героической нереальностью века. Стратегические перспективы «всеобщей войны» в Восточной Европе с начала и до конца отмечены каким-то барочным великолепием: от мечты Поссевино об обновленном католицизме, который через Россию достигает Индии и проникаете Китай, где заправляли иезуиты, — до фантастического русско-саксонского проекта на исходе века, согласно которому Москва заключила бы союз с Абиссинией, чтобы соединиться с Персией для крестового похода против турок, а затем, предположительно в союзе с протестантской Европой, сокрушить Рим[397].
Как и многое в искусстве барокко, проекты эти опирались на иллюзии, на невротическое желание увидеть невозможное. Реальность вселенской войны в Восточной Европе была даже еще более жестокой и страшной, чем Гражданская война в Англии или Тридцатилетняя война в Германии. Историки этих восточных областей так и не смогли найти нейтрально-описательные наименования для периодов особых ужасов и разрухи, которые последовательно выпали на долю их разных народов. Русские до сих пор с болью и смятением говорят о «Смутном времени», поляки и украинцы — о «Потопе», восточноевропейские евреи — о «Глубокой трясине», а шведы и финны — о «Великой ненависти»[398].
Военные удары извне сопровождались политическими и экономическими судорогами внутри по мере того, как цари укрепляли централизованную бюрократическую власть в своих владениях и налагали непосильное бремя на крестьянство. После, казалось бы, пика своего влияния рыхлые представительные собрания (русский земский собор, шведский риксдаг, польский сейм, еврейский Совет четырех земель и прусский штенде) все в конце XVII столетия внезапно рассыпались или утратили реальную власть. Аграрному обществу Восточной Европы навязывались новые псевдовоенные формы дисциплины, по мере того как «экономический дуализм» раскалывал нарождающуюся современную Европу на все более предприимчивый, динамичный Запад и крепостной, статичный Восток[399].
Нигде эти судороги не были более жуткими, чем в России XVII в. Массовые сдвиги населения и перемены в структуре общества происходили с ошеломляющей быстротой[400]. В Россию хлынули тысячи иностранцев; сами русские пролагали путь к Тихому океану; в городах вспыхивали бунты; крестьяне восставали, сторицей платя насилием за насилия; казаки и наемники предпочитали сражениям грабежи и массовую резню. Не будет преувеличением предположить, что на протяжении XVII столетия — в первые годы «Смутного времени» и Первой Северной войны соответственно — треть населения Великой Руси погибла на войне и от сопряженных с ней эпидемий и голода[401]. В шестидесятых годах XVII в. английский врач при царском дворе писал, что соотношение женщин и мужчин в окрестностях Москвы равно десяти к одному, а русские источники говорят о людоедстве на передовой линии и о волках в тылу — четыре тысячи их якобы бесчинствовали в Смоленске в лютую зиму 1660 г.[402]».
Не умея понять происходящие вокруг изменения, не говоря уж о том, чтобы справиться с ними, русские обратились к насилию и отчаянно цеплялись за формы и различия, уже утратившие смысл. Первый русский напечатанный свод законов — «Соборное уложение» 1649 года — был жестко иерархичным во всех частностях и санкционировал насилие, закрыв крестьянству все пути к избавлению от крепостной зависимости и введя телесные — вплоть до смертной казни — наказания за великое множество мелких проступков. Только кнут упоминается в этом своде 141 раз[403]. XVII в. был эпохой, когда прежние ответы устарели, однако взамен им еще не были отысканы новые. Неизбежное угасание старой Московии отлично выражают названия первых трех глав классического «Угасания средневековья» Иоганна Хайзенги: «Насилие как образ жизни», «Пессимизм и идеал жизни иной» и «Иерархическое понятие общества».
И Запад тоже не обрел ясного понимания, несмотря на все возрастающее число его солдат, врачей и умелых мастеров в Москве, а русских послов — за границей. Последние оскорбляли всех, постоянно требуя, чтобы длинные титулы царя произносили со всей полнотой и точностью, а их вездесущие и отнюдь не благоуханные телохранители тем временем срезали кожу с дворцовых кресел себе на обувь и оставляли следы экскрементов на стенах и полах. Западные путешественники старались превзойти друг друга рассказами о русской грязи, угодничестве и беспорядке, причем хватало подлинно комичных сцен, чтобы у западных наблюдателей сложился не аналитический, но чисто анекдотический подход к России. Голландского врача, который привез с собой в Москву флейту и скелет, чуть не растерзала толпа за попытку поднимать мертвецов из могил[404]; а во время Первой Северной войны английский врач был казнен, так как упоминание им «cream of tartar» (винный камень) было принято за выражение симпатии к крымским татарам[405]. Большинство западных авторов на протяжении XVII в. продолжали отождествлять русских с татарами, а не с остальными славянами. Даже в славянской Праге в книге, изданной в 1622 г., Россию наряду с Перу и Аравией отнесли к особенно необычным и экзотическим цивилизациям[406], а за год до того в относительно близкой и просвещенной Упсале была защищена диссертация на тему «Христиане ли русские?»[407].
Ирония, разумеется, заключается в том, что в этом столетии Россия была куда более истово христианской, чем все более и более секуляризировавшийся Запад. И в чем бы ни крылись исходные причины кризиса, который поразил Московское государство в этом бурном столетии, облечен он был в религиозную форму. Раскол, который роковым образом разделил и ослабил русское православие при царе Алексее, наложил свою печать на все области этой органически религиозной цивилизации. Административная консолидация и постройка новой западной столицы Петром Великим, сыном Алексея, не перекинули мост через идеологические пропасти, порожденные расколом, но только углубили их, сделали сложнее. Религиозные распри продолжали тяготеть и над современной Россией.
1. ВНУТРЕННИЙ РАСКОЛ
Решающий момент века — то, что русские называют переломом, — официальное церковное объявление о расколе в 1667 г. Это был своего рода coup d'eglise[408], который в религиозной Московии имел столь же далеко идущие последствия, как большевистский coup d'etat ровно 250 лет спустя в секулярном Санкт-Петербурге. Решения Церковного Собора в Москве, подобно решениям Петроградского Совета в 1917 г., явились критической точкой в истории России, после которой уже не могло быть возврата к прошлому. Значение 1667 г. еще в большей степени, чем значение 1917 г., было недооценено в тот момент, и ему с самых разных позиций бросали вызов всевозможные защитники старого порядка. Но перемена произошла в центре власти, и разобщенная оппозиция была не способна воспрепятствовать наступлению нового века и утверждению новых идей.
Раскол (подобно революции 1917 г.) представлял собой кульминацию и развязку почти векового ожесточенного идеологического разлада, который захватил политику и эстетику, а не только личные метафизические верования. Московское государство XVII в. по-всякому раздиралось непрерывным противоборством сил «средневековья и современности» «Московии и Запада». Однако подобные термины более подходят к осознанным и интеллектуальным конфликтам XVIII и XIX вв. Конфликт в России XVII в., пожалуй, лучше определить с помощью двух противостоящих терминов, постоянно встречающихся в летописях и полемической литературе той эпохи, — «хитрость» и «благочестие».
Эти термины — как и противостояние, которое они подразумевали, — очень трудны для перевода на западные языки. «Хитрость» — славянское слово, означавшее ум и сноровку. Восходит оно к греческому слову teclinikos, а в Московии приобрело оттенки искушенности и даже коварства. В основном этот термин употреблялся для обозначения компетентности в тех родах деятельности, которые оставались за пределами религиозных обрядов. «Заморской хитростью» называли многие прежде незнакомые технические достижения и приемы, которыми владели иностранцы, приезжавшие в страну в XVI и XVII вв.[409]. Когда в 1598 г. Борис Годунов стал первым избранным царем России, ему пришлось успокоить народные сомнения, касавшиеся процедуры выборов, публично объявив, что он был избран по вере и правде «безо всякия хитрости»[410]. Сопротивление старообрядцев опиралось на убеждение, что русская церковь, подобно западным, теперь познание Бога ищет лишь «внешнею хитростин»[411]. Позднейшие русские традиции крестьянских восстаний и популистских реформ были насквозь пронизаны примитивным и анархистским убеждением, что даже употребление и обмен денег представляет собой «хитрую механику»[412].. Послесталинское поколение бунтующих писателей тоже обличало «скальпель хитрый» бюрократических цензоров и «ретушеров»[413].