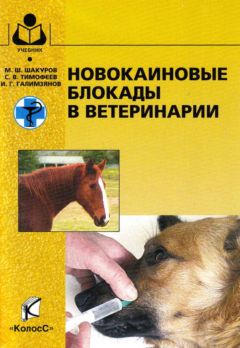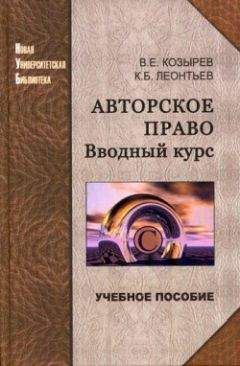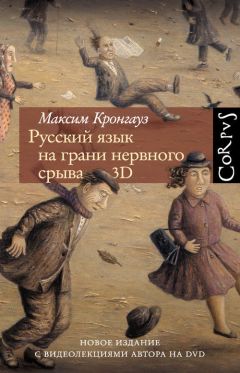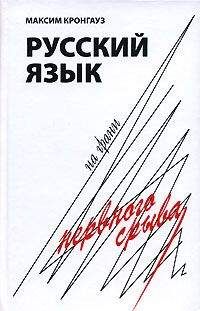Максим Кронгауз - Русский язык на грани нервного срыва. 3D
Сейчас одной из самых актуальных (читай, модных) лингвистических задач является исследование связей языка с культурой и мышлением, а также построение картины мира, стоящей за каждым языком. Искать истоки идеи (а особенно – достаточно аморфного комплекса идей) – как правило, дело неблагодарное. Тем не менее это лингвистическое и философское направление обычно возводят к Вильгельму фон Гумбольдту. Именно он первым стал рассматривать язык как деятельность и искать в нем выражение духа народа. Философы и лингвисты подхватили его идеи и понесли, однако следующего прилива пришлось ждать больше века. Неогумбольдтианство возникло в Европе только в 20-х годах прошлого столетия. Правда, несколько раньше – в конце 19 века – в Америке расцвела этнолингвистика, в рамках которой позднее была сформулирована знаменитая гипотеза Сепира – Уорфа. Эта гипотеза утверждала, что родной язык влияет на наше мышление. То, что о сути этой гипотезы спорят до сих пор, нисколько не мешает многим лингвистам продуктивно работать под ее знаменем. В 1953 году в Чикаго даже состоялась посвященная ей конференция, в которой приняли участие не только лингвисты, но и философы, этнографы, психологи и др. И вот теперь – в конце 10-го – начале 21 века – еще один прилив. Среди самых ярких примеров работы австралийской лингвистки Анны Вежбицкой, проникающей в дух народа через его язык.
Конечно, эта проблематика принадлежит не только лингвистике – она находится на стыке разных гуманитарных наук. Сколько наук с красивыми названиями было создано или только предполагалось создать для изучения этих феноменов: сравнительная антропология, уже упомянутая этнолингвистика, культурная психология!..
Надо признать, что чуть ли не самой благодатной почвой для такого рода исследований оказались и русский язык, и русский дух (он же “загадочная русская душа”). В качестве объекта изучения просто напрашиваются русские словечки типа авось или тоска и душа. А безличные конструкции вроде убило молнией или задавило трамваем разве не пример фатализма русского народа? Кто еще обратится к первому встречному мать или отец? Только русский, который, несмотря на внешнюю грубость (исследований по вежливости в языке тоже хватает), переполнен душевным теплом. Короче говоря, в русском языке, как сказал по другому поводу Гамлет в переводе Пастернака, “много кой-чего”…
Ситуация странная, почти парадоксальная (если забыть на время о табуированности и прочих запретах): для одного из самых важных действий в жизни человека в нашем литературном языке фактически нет нормального (то есть стилистически нейтрального и при этом не профессионального) обозначения. И наоборот, существует множество жаргонных и сленговых слов, которые крайне выразительны и естественны в разговоре “про это”. Вместо списка примеров в качестве подтверждения и поддержки приведем короткий текст С. Довлатова (“Записные книжки. Соло на ундервуде”):
...Прогуливались как-то раз Шклярииский с Дворкиным. Беседовали на всевозможные темы. В том числе и о женщинах. Шкляринский в романтическом духе. А Дворкин – с характерной прямотой. Шкляринский не выдержал:
– Что это ты? Все – трахал да трахал! разве нельзя выразиться более прилично?!
– Как?
– Допустим: “Он с ней был”. Или: “Они сошлись” ..
Прогуливаются дальше. Беседуют. Шкляринский спрашивает:
– Кстати, что за отношения у тебя с Ларисой М.?
– Я с ней был, – ответил Дворкин.
– В смысле – трахал?! – переспросил Шкляринский.
Количество “нелитературных” глаголов действительно необычайно велико. Если отбирать по словарям жаргона, сленга, бранной лексики и т.д., оно исчисляется несколькими сотнями (воистину “велик и могуч”…).
Что же могут сказать нам эти слова о нас же самих, думающих или говорящих о любви, точнее, о ее акте? Что свидетельствует язык о духе народа в данной ограниченной области? Исследование глаголов с совпадающими или очень близкими значениями позволяет воссоздать соответствующий фрагмент русской картины мира, или, иначе говоря, – любовь по-русски.
Насторожить исследователя должно уже само количество глаголов-синонимов и вовлеченность разнообразнейших языковых средств. Лингвистам хорошо известно, что разнообразие средств выражения с большой вероятностью означает, что речь идет о чем-то неприятном и нехорошем. Вообще, в любом языке имеется много возможностей сказать о чем-то плохо и мало способов сказать хорошо (см. эпиграф).
Впрочем, и сами эти глаголы, и их языковое поведение более чем красноречивы.
Прежде всего – что это за глаголы? Их можно разделить на две группы: существующие только вне литературного языка и те, что есть также и в литературном языке, но только с другими значениями. Например, какое-нибудь харить или заимствованное из английского (как будто своего мало) факать безусловно относятся к первой группе. А вот налить или перепихнуться можно найти даже в “приличных” словарях, но… не с тем значением. Первые – это, скажем, исконные глаголы любви. У них могут быть и другие значения, но они вторичны. Для второй же группы, наоборот, вторичными являются как раз табуированные значения любви, а главные вполне приличны и весьма разнообразны.
Напротив, вторичные значения исконных глаголов любви довольно однообразны – обязательно какая-нибудь гадость и безобразие. Типа надоесть, быть совершенно неинтересным, ударить, избить, украсть и т. п. Это легко продемонстрировать на примере матерного, так сказать, базового глагола. Вспомним каламбуры и анекдоты, построенные на столкновении разных значений этого слова. Например, старый советский анекдот о зайце, объясняющем возмущенному волку свое неучастие в общезверином субботнике тем, что у него “половой акт”. Когда же в очередной раз волк обращается к зайцу, вновь получает стандартный ответ и поражается продолжительности действия, заяц объясняет по-простому: “… он этот субботник”.
Каковы, говоря научным языком, механизмы смехопорождения в этом случае? Да обычный каламбур. Заяц использует матерный глагол в его вторичном и гораздо более часто встречающемся значении, то есть сообщает, что ему глубоко безразличен субботник (можно было бы сказать: плевал я на ваш субботник ). Эффект усиливается тем, что первоначально использованное зайцем выражение половой акт, в отличие от соответствующего глагола, не имеет этого вторичного значения, так что реакция волка, в том числе его возмущение, вполне оправданна.
Эта особенность не является спецификой русского языка. Достаточно подсчитать, сколько раз и в каких значениях говорят слово fuck герои какого-нибудь американского боевика, чтобы убедиться в интернациональности данного явления.
Иначе говоря, слова, предназначенные для выражения акта любви, очень легко приобретают всякие неприятные вторичные значения и очень часто относятся к так называемой бранной лексике.
Однако исконных слов не так уж и много. Постоянное пополнение этой лексики происходит за счет обычных слов и обычных корней. Однако далеко не все обычные слова годятся для этого, а только избранные. Какие же? Значение этих слов и корней, как уже сказано, очень разнообразно. Но при этом довольно большая их часть означает действия резкие, разрушительные и едва ли приятные для человека: врезать, всадить , долбить , дрючить, дырявить , жарить, заклепать, законопатить, запрессовать, распечатать, скоблить, трахать и др.
Вторичные значения возникают с помощью различного рода переносов: метафорических, метонимических и др. Если ограничиться переносом по сходству, то станет очевидно, что половой акт ассоциируется с чем-то неприятным, а иногда и просто разрушительным для человека. Это видно и из того, какие вторичные значения имеют исконные глаголы любви, и из того, у каких глаголов литературного языка появляется вторичное значение, связанное с половым актом.
Правда, все не так просто. В половом акте в нормальном случае участвуют двое, и роли у них весьма различны. Чтобы понять, как язык рассматривает отношения партнеров, обратимся к синтаксическим особенностям рассматриваемых глаголов. В подавляющем большинстве случаев субъектом действия является мужчина, а объектом – женщина (здесь не рассматриваются однополые акты). Относительно небольшое количество глаголов допускает в качестве подлежащего и мужчину, и женщину. И наконец, только у нескольких глаголов субъектом может быть женщина, а не мужчина.
Таким образом, все глаголы делятся на три неравных по размеру группы. Третью – с субъектом действия женщиной – образуют глаголы типа дать , отдаться , подвернуть , подмахнуть , расстелиться. Большинство из них управляют дательным падежом, то есть мужчина является адресатом или получателем.