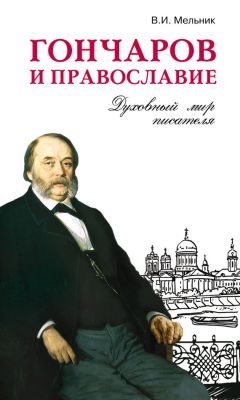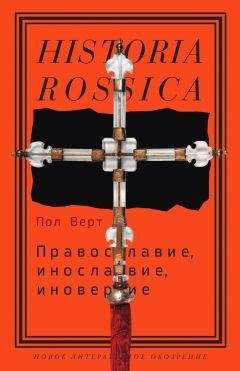Александр Генис - Уроки чтения. Камасутра книжника
В тот час, когда уж, кажется, и сил не было дышать, когда солнце, раскалив Москву, в сухом тумане валилось куда-то за Садовое кольцо, – никто не пришел под липы, никто не сел на скамейку, пуста была аллея.
Три возможных варианта содержат три жанровых потенциала.
1. Аллея была пуста – ничего не значит, звучит нейтрально и требует продолжения, как любая история с криминальным сюжетом или надеждой на него.
2. Была пуста аллея – можно спеть, она могла бы стать зачином душещипательного городского романса.
3. Пуста была аллея – роковая фраза. Приподнятая до иронической многозначительности, она не исключает насмешки над собственной мелодраматичностью. Этакий провинциальный театр, знающий себе истинную цену, но не стесняющийся настаивать на ней. Стиль не Воланда, а Коровьева – мелкого беса, голос которого рассказчик берет на прокат каждый раз, когда ему нужно незаметно высмеять героев.
Но главное, что все это богатство, с которым не справились три английских перевода, досталось нам, как благодать, без труда и даром – по наследству.
* * *Чужой язык кажется логичным, потому что ты учишь его грамматику. Свой – загадка, потому что ты его знаешь, не изучив. Что позволяет и что не позволяет русский язык, определяет цензор, который сторожевым псом сидит в мозгу – все понимает, но сказать не может, тем паче – объяснить.
Чтобы проникнуть в тайну нашего языка, надо прислушаться к тем, кто о ней не догадывается. В моем случае это – выросшие в Америке русские дети. Строго говоря, русский язык – им родной, ибо лет до трех они не догадывались о существовании другого и думали, что Микки-Маус говорит не на английском, а на мышином языке.
Со временем, однако, русский становится чужим. Ведь наш язык не рос вместе с ними. Так, сами того не зная, они оказались инвалидами русской речи. Она в них живет недоразвитым внутренним органом. Недуг этот не только невидим, но даже не слышим, ибо и те, кто говорит без акцента, пользуются ущербным языком, лишенным подтекста. О нем, как о подсознании, узнаешь не всегда, исподволь, обиняками и от противного. На чужом языке мы у́же и мельче.
Я, скажем, долго думал, что по-английски нельзя напиться, влюбиться или разойтись, потому что иностранный язык не опирался на фундамент бытийного опыта и сводился к “Have a nice day” из разговорника для тугодумов. Зато на своем языке – каждая фраза, слово, даже звук (“ы!”) окружены плотным контекстом, большую часть которого мы не способны втолковать чужеземцу, поскольку сами воспринимаем сказанное автоматически, впитывая смысл, словно тепло.
Внутреннее чувство языка сродни нравственному закону, который, согласно Канту, гнездится в каждом из нас, но неизвестно где и, показывает история, не обязательно у всех. Язык, как Бог, нематериален, как природа – реален, как тучи – трудноуловим. Скрываясь в межличностном пространстве, язык надо пробовать ртом, чтобы узнать, можно ли так сказать. Первый критерий – свой, последний – словарный. Безропотно подчиняясь одному, я готов воевать с другим, отказываясь, например, говорить “фо́льга”, чего бы это мне ни стоило.
Репрессивный русский словарь, в отличие от сговорчивого английского, выполняет еще и социальную функцию. В обществе, упразднившем одни и истребившем другие классы, язык стал индикатором сословных различий. Когда обновленные словари обнаружили у “кофе” средний род и разрешили называть его “оно”, маловажная перемена вызвала непропорциональный шок. Умение обращаться с “кофе” считалось пропуском в образованное общество. Но вот шибболет интеллигенции, удобный речевой пароль, позволяющий отличать чужих от своих, – убрали, и язык стал проще, а жизнь сложнее.
Язык, собственно, и не ищет простоты. Навязывая свою необъяснимую волю, он наделяет нас национальным сознанием. Неудивительно, что его охраняют, словно Грановитую палату, в чем я убедился, посетив Москву прошлым маем. Доехав до центра, машина застряла в пробке из-за колонны иерархов с иконами в сопровождении автоматчиков.
– День Кирилла и Мефодия, – объяснил таксист.
Он же, – подумал я, – день рождения Бродского, так что зря ОМОН сторожит русский язык: он принадлежит каждому, кто с ним справится.
32. Просто проза
Читать саги я научился еще первокурсником, на летней практике в балтийских торфяниках, где записывал для истории народные песни, в основном – Эдиты Пьехи. Хутора тогда были колхозами, церкви – без крестов, но местные уважали дубы, знали в лицо каждый валун и сообщали пчелам о смерти хозяина, как повелось с эддических времен в этом тоже северном краю. Днем я слушал, как старухи пели Пьеху, а по вечерам читал про свирепых людей с именами из одних согласных.
Северяне мне казались альтернативой гладкому Югу, который я, еще не знавший даже Крыма, представлял себе по репродукциям в “Огоньке”, предпочитавшем вслед за вождями сладкую болонскую школу. В самой поэтике саг чудилось что-то антисоветское, дерзкое, чужое – и свободное, как я чуть позже понял из Оруэлла.
Свобода, – писал он, – возможна лишь тогда, когда ты готов двинуть босса по физиономии и отправиться на Дикий Запад.
В сущности, я так и поступил, ни разу не пожалев о случившемся.
* * *Тысячу лет назад главным экспортом только что родившейся Исландии стала их литература – скальдические стихи и прозаические саги. Различия между ними – разительные: поэзию надо было изобрести, прозу – не заметить.
Скальд, если я правильно понял Стеблина-Каменского, был рэпером своего века. Войдя в раж, который мы зовем вдохновением, а северяне – священным безумием (по Пушкину – “находит”), он уподоблялся берсерку. Доверившись ритму, размеру и словарю готовых метафор-кённингов, неграмотный скальд не писал, а исполнял скудные содержанием, но богатые формой стихи, как музыку – вроде Армстронга или Айс-Куба.
Стихи, как оперная ария, топчутся на месте, пока не углубят его настолько, что оно утянет в образовавшуюся воронку поэта, иногда вместе с лошадью (такое нередко происходило в вулканической Исландии). Стихи, как заклинания, которыми они, в сущности, и являются, делают ставку на звук и его магию. Ясно, что они не могут не любоваться языком. Прозе он почти не нужен. Во всяком случае, тогда, когда она была антистихами.
Вот этому мы все и завидуем – бесхитростности, безыскусственности, той простоте, которая почему-то никогда не приходит сама, а требует нечеловеческого дара, волшебной удачи и доверия к своему гению, короче говоря – Пушкина. Мериме видел в пушкинской прозе перевод с французского, но не того, на каком писали их современники, а того, каким пользовались писатели мифического прошлого, умевшие и не стеснявшиеся писать просто.
Литература ищет, где глубже и раньше, редко заглядывая в будущее с надеждой, ибо там ее ждет каменный век словесности: “дыр-бур-щил”. Между ним и нами прячется божья мера простоты.
Просто писать трудно. Писать, впрочем, трудно всегда, но сложность дается легче, ибо требует сознательного усилия, жизненного опыта, накопленных знаний, профессионального мастерства, другими словами – наживного. Наматывая определения, сгущая смысл, вкручивая, словно лампочку, юмор, растягивая фразу ложными парадоксами, удваивая смысл каламбурами, украшая фразу тайными рифмами и скрытыми аллитерациями, мы взбиваем текст в прозу, добиваясь от языка примерно того же, что стихи. Но это – поэтическая проза, которая бывает волшебной у Мандельштама, кинжальной у Бабеля и соблазнительной у Олеши.
Просто проза пишется иначе. Так, как исландские саги, родившиеся от скуки. На 66-м градусе полгода живут почти без солнца, а в темноте и делать нечего, даже выпивать трудно.
Однажды, бурно отмечая Новый год, я попал себе пальцем в глаз, да так, что поцарапал роговицу. Сперва мне хотелось продолжить веселье на ощупь, но выяснилось, что с закрытыми глазами не пьется, и я ушел спать, оставив соучастников догуливать без меня.
В другой раз, прожив неделю без электричества после урагана “Сэнди”, я ощутил внутреннюю связь света с литературой. Каждый вечер, сразу после раннего в ноябре заката, мы с женой читали до одури, деля последнюю свечу. Но тут оказалось, что читать молча сложнее, чем сперва казалось, и мы принялись хвастать понравившимся. Она – стихами, я – прозой, все теми же сагами, которые не могу отложить с тех пор, как мне повезло побывать на их родине, причем когда следует – зимой.
Исландский пейзаж, конечно, и летом не балует, но зимой, когда снег смешивается с дождем, ветром и землетрясением, когда дамы не выходят из дома без водонепроницаемых сапог из тюленьей кожи, а машины не покидают гаража без крайней нужды и аварийного запаса, я чувствовал себя на месте – том, где родилась моя любимая проза. Ее, прозу, можно понять. На краю земли, в одном градусе от полярного круга география не поощряет излишества и признает только существенное: скелет повествования. Не удивительно, что Исландия стала родиной прозы, но не всякой, а просто прозы, которая так прозрачна, что в ней не задерживается ни одна идея. Вместо пейзажа – топонимика, вместо портретов – родословная, вместо рассуждений – пробел, вместо чувств – сарказм, вместо эпилога – конец без вывода. Сплошное вычитание, но оно-то и создает рассказ, как пустота – кружку.