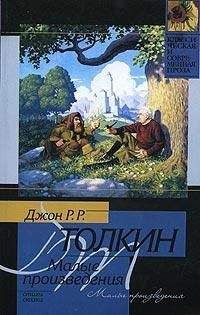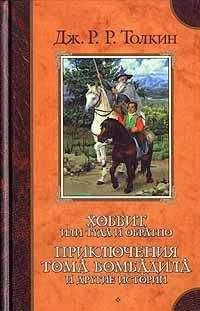Джон Толкин - Приключения Тома Бомбадила и другие истории
Конечно, я не отрицаю притягательности научного подхода. Во мне тоже живет желание распутывать сложную историю переплетенных ветвей Древа Сказок. Похожее желание испытывает лингвист, прорубающий тропу в дебрях Языка, — а об этом я кое-что знаю. Но даже в отношении языка я считаю, что гораздо важнее и труднее уяснить и подробно описать существенные стороны и особенности данного языка в живом литературном памятнике, чем проследить его историческое развитие. Поэтому, возвращаясь к сказкам, скажу следующее: на мой взгляд, гораздо интереснее и по-своему труднее рассмотреть, что они собой представляют сейчас, чем стали для нас, какие ценности привнес в них за долгие века алхимик-время. Я бы выразился словами Дейсента: «Нам должно хватать супа, стоящего перед нами. Ни к чему стремиться увидеть бычьи кости, из которых его сварили». Впрочем, как это ни странно, под «супом» Дейсент имел в виду хаотические и весьма сомнительные сведения о доисторических временах, основанные на догадках едва народившейся сравнительной филологии, а «стремлением увидеть кости» у него названы требования опубликовать доказательства и факты, легшие в основу теории. Я же под «супом» разумею сказку в том виде, как она дана нам автором или рассказчиком, а под «костями» — ее материал или источники (в тех весьма редких случаях, когда они известны). Но, конечно же, я ничего не имею против критики супа как такового.
По этим причинам я лишь затрону вопрос о происхождении сказки. В этой области я недостаточно компетентен, чтобы говорить подробно. Но это не беда, поскольку из трех поставленных в начале века вопросов этот для моих рассуждений наименее важен, так что будет достаточно и нескольких замечаний.
Несомненно, волшебные сказки зародились в глубокой древности. В самых ранних письменных памятниках обнаруживаются записи, родственные сказкам, причем они появляются повсюду, где есть язык. Мы, очевидно, сталкиваемся с вариантом проблемы, стоящей перед археологией и сравнительным языкознанием — это необходимость сделать выбор между независимым развитием (или, скорее, созданием) сходных явлений, наследованием от общего прототипа и разновременной диффузией из одного или нескольких центров. Любые споры чаще всего начинаются из-за того, что спорщики стараются излишне упростить явление. Спор между приверженцами трех перечисленных теорий, на мой взгляд, не является исключением. История сказок, вероятно, сложнее, чем история рода человеческого, и не менее сложна, чем история языка. Все три пути — независимое создание, наследование и диффузия — очевидно, сыграли свою роль в формировании сложной структуры сказки. А ныне разве что эльфы сумеют распутать эту головоломку[44]. Из этих трех путей создание — основной, самый важный, а потому, естественно, и самый загадочный путь. Два других при обратном движении приводят в конечном счете к той же фигуре создателя. Диффузия (заимствование в пространстве) предмета материальной культуры или волшебной сказки попросту переносит вопрос о происхождении в другое место. В предполагаемом центре диффузии находится точка, где когда-то жил создатель. То же самое относится и к наследованию (заимствованию во времени): при изучении пути наследования мы в конце концов доберемся до древнего создателя. Если же мы считаем, что время от времени независимо друг от друга в разных местах появлялись сходные идеи, темы и приемы, мы просто допускаем существование не одного, а нескольких древних создателей, но ничуть не приближаемся к пониманию их дара.
Языкознание ныне низвергнуто с трона, на котором когда-то восседало в следственной комиссии по этим проблемам. Можно без сожалений отбросить точку зрения Макса Мюллера на мифологию как на «болезнь языка». Мифология вовсе не болезнь, хотя, как и все человеческое, может заболеть. С таким же успехом можно сказать, что мышление — болезнь сознания. Ближе к истине звучало бы утверждение, что языки, особенно современные европейские языки, — болезнь мифологии. И все же Язык нельзя оставлять без внимания. Язык (то есть воплощенное сознание) и сказания появились в нашем мире одновременно. Человеческое сознание, наделенное способностью обобщать и абстрагировать, видит не только зеленую траву, отличая ее от всех других объектов (и обнаруживая, что она красива), но видит также, что, будучи травой, она еще и зелена. Каким великим событием было изобретение прилагательного, как оно подхлестнуло сознание, которым было создано! Во всей Феерии нет заговора или заклинания мощнее. И это неудивительно: ведь заклинания можно рассматривать как своеобразный вид прилагательных, как часть речи в грамматике мифа. Сознание, придумавшее такие слова, как легкий, тяжелый, серый, желтый, неподвижный, быстрый, породило волшебство, которое способно тяжести делать легкими и летучими, превращать серый свинец в желтое золото, а неподвижную скалу — в быстрый ручей. Сознание, способное на первое, способно и на второе — и, естественно, и то и другое свершилось. Если мы можем отделить зелень от травы, голубизну от неба, красноту от крови, мы уже в какой-то сфере обладаем чародейской силой, и в нас пробуждается желание приложить эту силу к миру, лежащему за пределами нашего сознания. Это не значит, что мы правильно распорядимся своими чарами в любой сфере. Может быть, мы придадим человеческому лицу мертвенно-зеленый цвет — и произведем на свет страшилище; может быть, заставим светить странную и грозную синюю луну — а можем покрыть леса серебряной листвой, а овец — золотым руном и вложить жаркое пламя в грудь холодного дракона. И так называемая «фантазия» создаст небывалое. Родится Феерия. Человек станет творцом вторичного мира.
Итак, важнейшее свойство Феерии — в том, что в этой стране мгновенно овеществляются видения «фантазии». Естественно, не все фантазии падшего человека прекрасны и благотворны. И эльфы, способные (действительно или по слухам) овеществлять видения, тоже видятся ему запятнанными тем же проклятием. Мне кажется, слишком редко рассматривают именно эту область «мифологии» — творение вторичных миров, в отличие от изображения или символической интерпретации красот и ужасов нашего мира. Почему так происходит? Потому ли, что ее легче отыскать в Феерии, чем на Олимпе? Что она считается сферой «низшей мифологии», а не «высшей»? Было много споров, как соотносятся народная сказка и миф. Но даже если бы этот вопрос не вызывал споров, на нем необходимо остановиться, раз уж мы хотя бы вкратце рассматриваем происхождение сказки.
Одно время господствовало мнение, что все эти сказания произошли от «природных мифов». Олимпийцы, согласно этой теории, персонифицируют солнце, рассвет, ночь и т. д., а истории, которые про них рассказывали, первоначально были мифами (здесь больше подходит слово «аллегория») о взаимодействии стихий и процессах, происходящих в природе. Затем в эпосе, героической легенде, саге эти истории были локализованы в реально существующих местах и очеловечены: действовать в них стали герои-предки, то есть люди, пусть более могучие, чем современные. И наконец эти легенды, совсем измельчав, превратились в народные сказания, Märchen, волшебные сказки, — короче, в истории для детей.
В этой теории истина, по-моему, вывернута наизнанку. Чем ближе к своему предполагаемому прототипу «природный миф» (или аллегория), тем он неинтереснее, тем меньше света может пролить на реальность. Давайте на минуту предположим вслед за теорией, что, собственно, в мире нет прямого соответствия мифологическим «богам» — нет таких индивидов, а есть только астрономические объекты и метеорологические явления. В таком случае придать этим природным объектам индивидуальность и великолепие может только человек, пользуясь своим индивидуальным же даром. Индивидуальность порождается только индивидом. Пусть боги получили свое сияние и красоту от прекрасной природы — но ведь именно человек добыл для них это великолепие, выделив его из солнца, луны, облаков. Свою индивидуальность боги приняли прямо из его рук. И, наконец, отблеск божественности, лежащий на них, они также получили при посредничестве человека из невидимого мира Сверхъестественного. Между высшей и низшей мифологией нет глубокого различия. Их герои оживлены (если оживлены вообще) одной и той же жизненной силой так же, как в мире смертных — король и крестьянин.
Возьмем пример. Казалось бы, типичная олимпийская «природно-мифологическая» фигура — скандинавский бог Тор. Его имя по-норвежски означает «гром», а его молот, Мъелльнир, нетрудно интерпретировать как молнию. И все же у Тора есть (судя по сохранившимся памятникам) весьма определенный характер, индивидуальность, которой ни гром, ни молния не обладают, хотя некоторые ее детали и соотносятся с этими природными явлениями, например рыжая борода, громкий голос, вспыльчивость и слепая, все сметающая сила. Тем не менее было бы бессмысленно задаваться вопросом, что появилось раньше: природная аллегория о персонифицированном громе, который гремит в горах, дробит скалы и валит деревья, или рассказы о гневливом, необычайно сильном, но не особенно умном рыжебородом фермере, который во всем (кроме разве что роста) очень напоминает скандинавских фермеров (boendr), глубоко почитавших Тора. Существует мнение, что образ Тора «измельчал» и превратился в образ такого человека, — и противоположное мнение, что человек «возрос» и превратился в бога. Но я думаю, что обе точки зрения неверны, если их брать по отдельности, если настаивать, что один из процессов предшествовал другому. Более разумно предположить, что фермер пришел рассказчику на ум в тот самый момент, когда он придавал Грому лицо и голос, что всякий раз, когда рассказчик слышал, как бушует фермер, в горах перекатывался гром.