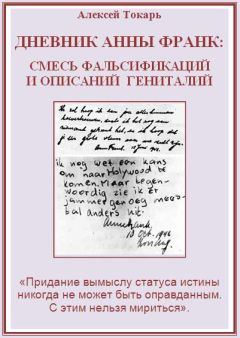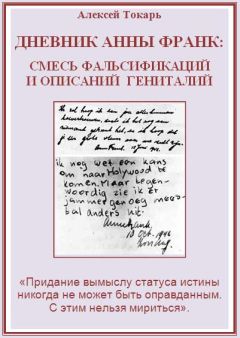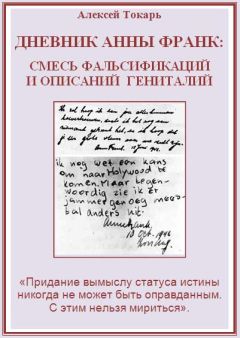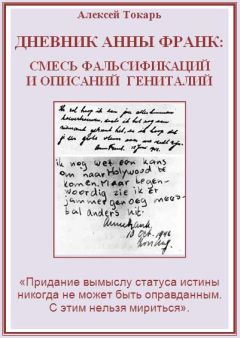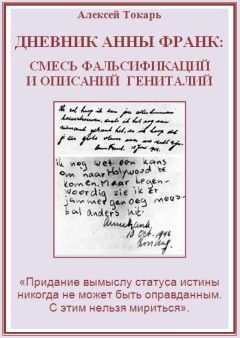Сергей Хоружий - "Братья Карамазовы" в призме исихасткой антрополгии
Как мы видим, за счет «примыкающего слоя» сфера исихастской антропологии, социальная и культурная значимость исихастской традиции расширяются. Но как велик этот слой? Его масштабы зависят от множества религиозных и исторических, культурных и социальных факторов, и в разные эпохи, в разных ареалах Православия они бывали различны до крайности. Сейчас нам важно отметить, что бывали и такие исключительные ситуации, когда «примыкающий слой» вырастал столь необычайно, что делался сравним с масштабами всего социума. В таких ситуациях, традиция испытывает подъем, концентрирует в себе мощную творческую энергию и приобретает широкое и сильное влияние на социум, «выходит в мир». Эти особые периоды именуются «Исихастскими возрождениями», и главными из них в истории Православия были два: в Византии 14 в. и в России 19 – начала 20 в.
Итак, время Достоевского, как равно и время его главного романа – период Исихастского возрождения в России. «Исихастская жизнь» тогда составляла крупный духовный и культурный фактор в жизни русского общества, и «Братья Карамазовы» – один из главных культурных фактов, которые это доказывают. Как мы сейчас убедимся, антропокосмос романа почти целиком принадлежит к «примыкающему слою» исихастской традиции.
Антропокосмос «Карамазовых» в порядке описи
Мир романов Достоевского – мир человека, антропокосмос. Он начинается человеком и им исчерпывается, привычные в романном жанре дискурсы природы, авторских размышлений и прочие практически устранены, и всё художественное пространство безраздельно заполняют лишь «антропологические единицы», голоса-личности, ведущие меж собой бесконечный, принципиально незавершаемый диалог. Для нас существенны все эти голоса-личности, ибо наш замысел реконструкции антропологии «Карамазовых» в свете исихастской антропологии требует сопоставить каждую из этих «антропологических единиц» с исихастской моделью человека. Прежде чем проводить такое сопоставление, окинем взглядом весь антропокосмос романа, чтобы увидеть общий его состав и строение. Порядок обозрения определен самим романом: естественно, чтобы он отвечал порядку появления личностей-голосов на сцене, в «предисловном рассказе», как именует начальную экспозицию романа первый из его голосов,
— Рассказчик. Ведя авторский дискурс, он, как справедливо подчеркивает Бахтин[4], не представляет, тем не менее, глас непреложной истины и всеведения, а является лишь одним из голосов, что Достоевский, в свою очередь, подчеркивает известным снижением его фигуры: он в высшей степени добропорядочен, дает свою оценку событиям и героям, но в то же время – слегка простоват и стеснителен; имея собственные мысли по поводу всего происходящего, он лишь изредка решается их высказывать.
— «Семейка», протагонисты романа: Отец, Федор Павлович Карамазов, 55 лет, женатый и овдовевший дважды, имеющий одного сына от первого брака и двух – от второго, погрязший в пьянстве, разврате, «пакостях» и прозываемый шутом всеми, от себя самого до Бахтина («Образ Федора Павловича как образ шута»). Старший сын, Дмитрий, Митя, 28 лет, отставной капитан. Средний сын, Иван, 23 лет, начинающий литератор. Младший сын, Алеша, 20 лет, монастырский послушник, состоящий при старце Зосиме. Как таковой, он служит общим звеном между «семейкой» и следующей, высшей областью антропокосмоса:
— «Старцы», представители исихастской традиции, инстанции духовного авторитета и нравственного суда. Из них в число главных голосов-личностей входит один старец Зосима, 65 лет, живущий в отдельном скиту и из всего монастыря самый прославленный духовными дарами, более всех собирающий к себе «толпы со всей России». Но есть и другие голоса-личности отцов-подвижников: Паисий, «ученый иеромонах», ближайший ученик Зосимы и его духовник, Ферапонт, «великий молчальник и постник», но при этом «противник старца Зосимы и главное – старчества». Мир традиции в романе неоднороден.
— Праведники: фигуры, крайне характерные для русской литературы и для Достоевского, в частности. В романе их представляют два персонажа из жития старца Зосимы: Маркел, брат его, и Михаил, он жеТаинственный посетитель, а также мальчик Илюша Снегирев, который, подобно Алеше, служит общим звеном между Праведниками и следующей областью антропокосмоса:
— Мальчики: особое сообщество со своим важным назначением в романе. Центр сообщества и его главный голос – он же, Илюшечка, но совершенно самостоятельную личность, крупный и в высшей степени выразительный характер являет собою Коля Красоткин, стремящийся «принести себя в жертву за правду». Протагонистов дополняют и еще детские голоса: Смуров, Карташов…
— Женщины: в антропокосмосе Достоевского женские голоса-сознания глубоко разнятся от мужских, у них особенная, своя конституция, которая их отличает от мужских голосов-сознаний и объединяет между собой, поверх всех различий, и «баб», и «дам». Вклад женских голосов в диалог «Карамазовых» львиною долей принадлежит Грушеньке и Катерине Ивановне, двум классическим образцам «женщин Достоевского». К главным героиням присоединяются поддерживающие голоса Хохлаковых, матери и дочери, Лизы-бесенка. Прочее женское присутствие незначительно и диалогически безголосо: дамы Снегиревы, Марфа Игнатьевна, в имени-отчестве которой сам автор всё путался, вплоть до окончательного текста… «Карамазовы» – не женский, а очень мужской роман, где женщина преимущественно эксплуатируется как часть мужского сознания, а страсть к ней – как пружина мужских поступков.
— Униженные и оскорбленные: непременное сообщество в антропокосмосе Достоевского! Но в последнем романе это сообщество сократилось до одного штабс-капитана Снегирева с его семейством.
На этом, пожалуй, ансамбль полномерных голосов-личностей, отвечающих бахтинскому условию полной автономии, заканчивается. Оставшиеся голоса в том или другом отношении, тем или другим способом лишены полноты своей автономии.
— «Не наши»[5]: Ракитин, «семинарист-карьерист», Миусов, «либерал, вольнодумец и атеист». Их голоса – явные полемические конструкты, в которых антропокосмос романа обнаруживает себя партийным космосом, где голоса западников звучат так, как это любо их противникам – славянофилам. Элементы идеологической окраски (а порою и деформации) художественной реальности у Достоевского тоже традиционны.
— Фантомные голоса – искушения Ивана: Смердяков, Черт. Голос Смердякова помещен сюда мною оттого, что этот голос, как и у Черта, лишь одно из порождений, проекций голоса Ивана. Вне связи с Иваном, Смердяков был бы безголосым: свое преступление, дающее ему полноправный голос, диалогическую позицию, он совершает с голоса Ивана (сам свидетельствуя, что без него не совершил бы), а едва он увидел, что ослышался, и голос Ивана не был санкцией на преступление – или был слишком неуверенной, робкой санкцией – как голос его тут же исчез, уничтожил себя, – и в финале Ивана, Черт и Смердяков уже фигурируют совершенно одинаково, с равной реальностью или фантомностью. Как эмпирический же лакей Ф.П.Карамазова, 24 лет, Смердяков принадлежит иной, последней уже области антропокосмоса:
— Объектные персонажи, в смысле Бахтина: те, «которые, в сущности, выводятся за пределы диалога как статисты, не имеют своего обогащающего и меняющего смысл диалога слова»[6]. Таковых персонажей множество, ибо «Карамазовы» – большой роман с богатейшей реальной фактурой, и отдельные его «объектные» фигуры даже произносят очень много слов – прежде всего, прокурор и защитник. Кроме судейских, в сообществе «объектных» – паны польские, кабатчик Трифон, прихлебатель Максимов; но также и богомольцы у старца, бабы и мужики на базаре и прочие – в силу уже не какой-либо ущербности, а только – эпизодичности.
Антропокосмос «Карамазовых» в исихастской перспективе
Согласно исихастскому видению человека, каждая из личностей-голосов строится и становится (конституируется), актуализуя свое отношение к Богу в синергии, онтологическом размыкании себя. К размыканию же ведет Лествица, духовно-антропологический процесс. Поэтому, чтобы осмыслить, интерпретировать антропокосмос «Карамазовых» в свете исихастской антропологии, нужно рассмотреть каждый из его голосов «на фоне Лествицы», в его отношении к стадиям процесса духовного самопреобразования. Но взгляд в исихастской перспективе по-своему видит и строение антропокосмоса в целом: в отличие от взгляда Рассказчика, для него этот космос строится не по нарративному (синтагматическому) принципу, а по смысловому (парадигматическому), и начинать речь о нем следует не с сюжетного центра, не с «семейки», а с осмысляющего ядра, со «Старцев». С другой стороны, и этот взгляд не может игнорировать природу дискурса, в силу которой любому взгляду, исихастскому или нет, антропокосмос представляется Рассказчиком, обойтись без посредства которого невозможно.