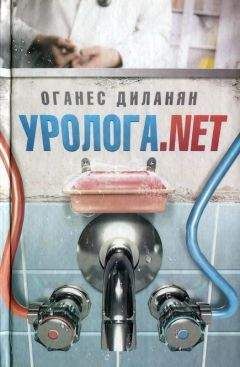Евгений Богат - Бескорыстие
Волнующая это вещь — ощутить великую революционную этику, давшую миру бессмертных героев, в поведении «обыкновенного старика», соседа по даче, который пишет бесконечные письма, дежурит по охране общественного порядка, заботится о водоеме для детей, куда-то постоянно торопится. И вот за этим-то будничным, повседневным вырисовываются исполинские силуэты, и ты ощущаешь живое родство эпох.
В однообразном течении дней, в утомительном мелькании одного и того же, в повторяющихся мелочах часто утрачивается ощущение величия жизни, начинаешь видеть ее не объемно, в волнующей непрерывности, а в совершенно искусственном механическом делении на «обыкновенное сегодня» и «легендарное позавчера». В «обыкновенном сегодня» живет ничем будто бы не замечательный человек — сослуживец, попутчик, сосед по даче… а в «легендарном позавчера» жили Сократ, Томас Мор, Кампанелла, герои и мученики! И та минута, когда в «обыкновеннейшем» современнике узнаешь черты легендарного героя, дает урок мудрости — начинаешь лучше понимать человека и жизнь, возвращается утраченная цельность видения. Она обогащает вдвойне: сегодняшнюю реальнейшую личность воспринимаешь как легендарное существо, а Томаса Мора и Кампанеллу, как сегодняшних реальных людей.
Революция подобна Гераклитову огню — он никогда не потухает.
Человек не стареет…
В ту обыкновенную «дачную» ночь, под органный гул сосен, я лучше понял и людей, о которых писал, и тех, кто этих людей дарил мне с бескорыстием и верой в меня. (Последнюю строку неписатели и нежурналисты могут и не понять, поэтому, видимо, стоит объяснить как можно более кратко, что в нашем деле наивысшая щедрость — «подарок» сюжета, человека, судьбы, когда дарящий отдает бесценное, о чем мог бы и сам написать, тому, кто, как ему кажется, напишет лучше. Классическая модель подобных отношений, бесконечно, что само собой разумеется, отличающихся по масштабу от того, о чем я буду рассказывать дальше: Пушкин — Гоголь.)
В ту ночь думал я о человеке, который был читателям известен как Ин. Андреев, автор умных, добрых книг и точно, мастерски написанных очерков о хороших людях, для меня же был Женей Кюном. Это подлинное его имя появилось в печати один-единственный раз, когда он умер, упав на улице с остановившимся сердцем. Он умер, как и жил, — ОСИЛИВАЯ дорогу. Вот тогда-то появилось имя его в черной рамке, немного странное для человека, родившегося в вологодской деревне: Кюн.
Я буду дальше называть его Кюном, это чуточку архаичное и литературное Ин. Андреев не совпадает с ощущением его — живого, одаряющего меня мыслями, сочувствием, душевным теплом. Он одаряет меня и потому, что его книги «Синий час» и «Зеленая ветка» стоят на моей полке, и потому что сам он, как личность, живет во мне и не умрет, покуда я буду дышать.
Синий час — час вечера, когда кристаллизуются дневные впечатления, час зрелых раздумий, это не час суток — час жизни. (Женя Кюн и переживал сам этот час, когда я, более молодой и менее искушенный в литературе, познакомился с ним; было это в редакции московской областной газеты четырнадцать лет назад, и в первую же минуту, не успев, видимо, даже понять хорошенько, что за человек перед ним, он начал меня одаривать — иначе не мог, не умел общаться с людьми. Он, помню, тогда подарил мне эпиграф к очерку, который я собирался написать о послевоенной судьбе солдат. «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд», — повторил он дважды, напевно, с великой серьезностью строки А. Твардовского.)
Один из героев «Синего часа» говорит: «Спасенная жизнь стоит хорошо написанной книги». Я думаю, что это заветнейшая мысль самого Кюна. Он никогда не забывал, что есть в журналистской работе две основополагающие вещи, которые выше самых великолепных «творческих находок». Это — ОТКРЫТЬ человека и ЗАЩИТИТЬ человека. Однажды, — он работал тогда в железнодорожной газете, — Женя получил долгожданную командировку на юг — в овеянный романтикой город. В поезде он случайно узнал, что на маленькой станции, которую они через час минуют, не останавливаясь, у стрелочника Киселева большое несчастье. Когда он дежурил, загорелся его дом — в полуверсте. Человек видел, горит, но не побежал, остался верен долгу — шли поезда. Жена его тоже была в тот час на работе. И вот уже несколько месяцев они бедствуют без крова.
Кюн сошел на этой станции (убедил начальника поезда, и тот распорядился: затормозить состав), нашел Киселева, выяснил обстоятельства дела и передал по селектору двадцать строк в газету.
Стрелочнику объявили благодарность и выдали солидную сумму — на постройку дома. Его послали учиться, и он стал потом начальников станции.
Кюн не написал большой вещи, ради которой поехал на юг. Он вернулся в Москву и боролся за действенность тех считанных двадцати строк. Но победа, которую он одержал, стоит литературного успеха. Я имею в виду и победу над самим собой: это нелегко все же «перестроить» себя в несколько минут, отложить задуманное, сойти поздно вечером на скупо освещенном полустанке. Была эта история до войны, давно, рассказывали мне о ней старые товарищи Жени. Но разве сам я не видел, как он то и дело и открывал, и защищал?!
Открыл он и Александра Ивановича Смирнова, а открыв, «подарил» мне. «Езжай в Ногинск, — торопил он меня, рассказывая вещи действительно удивительные. — Не пожалеешь!»
Беседовали два краеведа: директор Ногинского музея Александр Иванович Смирнов и персональный пенсионер Дмитрий Иванович Корнеев. Речь шла о поисках и находках.
— А картинная галерея Морозовых как в воду канула, — заметил Корнеев.
— Галерея Морозовых… — повторил Смирнов, поняв собеседника с полуслова.
Почти все Морозовы, известные российские капиталисты, хозяева текстильных фабрик, были коллекционерами. Дом молодых Морозовых в Богородске (так назывался Ногинск до революции) был увешан полотнами русских и западных художников, парадная лестница украшена скульптурами…
Ни Смирнов, ни Корнеев, дети ткачей, не были вхожи в этот великолепный дом дальше передней. Но и оттуда видели они в дымных косых лучах солнца или в огне дорогой люстры блеск огромной картины над первым маршем лестницы… Рассказывали, что на втором этаже висит картина не меньших размеров: синяя, серебряная и золотая — море в лунную ночь. И много-много картин небольших.
Эта осведомленность и помогла Корнееву действовать в семнадцатом году решительно и быстро.
— …Ты помнишь, с чего мы начали? Или забыл?! — тормошил он сейчас собеседника.
— Хорошо, — согласился Смирнов. — Давай восстановим события. Но не волнуйся и не забывай сам, что я был тогда в армии, далеко.
Но не волноваться они уже не могли.
— Слушай! — говорил Корнеев горячо. — Семнадцатый, март. Рабочую охрану поставили у банка, у почты, потом пошли к дому Морозовых. Что нас вело? Почему пошли? Картины порядочной в жизни никто не видел… Потом, через много лет, читал я в «Десяти днях» Джона Рида, как темная солдатня замирала в Зимнем у полотен, и понял: тут не ум, нет, — душа… Морозовы бежали налегке, все было в целости. С винтовками стали при этих лунных ночах, осенних полях и женщинах в старинных уборах. После Октября перенесли картины по соседству, в первый советский Дом культуры…
— А опись? Делали опись?
— Да! — твердо ответил Корнеев.
И обоим показалось странным, как они могли жить, не думая об исчезнувшем сокровище, не разыскивая его, будто бы эти десятилетия не были заполнены большими событиями века, будто бы не воевали они в молодости и под старость, не лежали в госпиталях, не учились, не строили, не странствовали…
Теперь душевные силы сосредоточились на одном: найти картины. Но чьей они кисти? И как называются? На это могла ответить только опись — удивительный, рожденный революцией документ, составленный красногвардейцами между подавлением двух мятежей — эсеров в Павловском Посаде и кулаков в соседнем селе. Корнееву казалось даже, что он помнит серую толстую бумагу и округло-старательный почерк юного красногвардейца, который тщательно выводил имена художников и названия картин, а через день был убит наповал — в сердце.
Корнеев рылся в архивах хлопчатобумажного комбината, перерыл горы документов — почти за сто лет! — дышал и дышал пылью старых бумаг… и нашел то, что искал.
И вот они с Александром Ивановичем Смирновым перечитывают в десятый, в двадцатый раз: Айвазовский… Иванов… Васнецов… Маковский… Переплетчиков…
— Хорошо, что не искурили, — улыбается Корнеев, любовно поглаживая серую бумагу.
— Теперь можно искать, — говорит Смирнов.
И город за окном, обыкновенный, районный, с редкими огнями фонарей, старым трамваем, темной волнистой линией крыш на зареве дальних заводов, город, по булыжникам которого они научились ступать, как по половицам родного дома, кажется им вдруг новым и загадочным. Может быть, на соседнем чердаке в пыли лежит Айвазовский?..