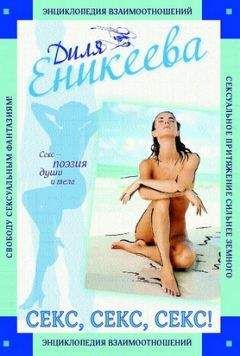Екатерина Шапинская - Философия музыки в новом ключе: музыка как проблемное поле человеческого бытия
В модернистской и постмодернистской культуре, напротив, текст «не имеет ни определенного значения, ни устойчивых означаемых, но является плюральным и диффузным, неистощимой тканью или галактикой означающих, бесшовной тканью кодов и фрагментов кодов, через которые критик может прокладывать свои пути… Все литературные тексты сотканы из других литературных текстов не в том общепринятом смысле, что в них заключены следы их происхождения, но в более радикальном смысле того, что каждое слово, фраза или сегмент, является переработкой других текстов, которые предшествуют или окружают индивидуальную работу» (Harvey, D. The Condition of Postmodernity. Cambridge, MA and Oxford, UK: Blackwell, 1991. P. 158).
В таком случае, возникает вопрос, не исчерпана ли репрезентация, не уничтожил ли ее тот кризис, который возник еще на заре модернизма? Современные культурные формы показывают, что репрезентация продолжает быть основой многих текстов, вербальных, визуальных или экранных, поскольку модернистские и постмодернистские тексты не вытеснили традиционные репрезентационные модели, а скорее существуют рядоположенно с ними. С другой стороны, понятие репрезентации также подверглось переосмыслению в современных исследованиях. Оно носит двойной смысл – с одной стороны, это создание образа реально существующих явлений, с другой – формирование представлений, в основе которых лежат ментальные конструкты.
Специфика процесса репрезентации в современной культуре отмечается Л. Хатчеон. Она ссылается на работу Л. Альтюссера «В защиту Маркса», в которой он определяет идеологию «одновременно как систему репрезентации и необходимую и неизбежную часть каждой социальной тотальности» (Hutcheon L. The Politics of Postmodernism. L. – NY: Routledge, 1991. P. 6). Не только идеология определяет специфику репрезентации того или иного явления или артефакта. Сложность определения репрезентации объясняется самим отношением мира искусства к миру «естественных объектов». Это отношение основывается уже не на идеологии или на эстетических представления, о чем пишет британский эстетик Г. Грэхем: «Общепринятые идеи о репрезентации, даже в визуальных искусствах, имеют тенденцию к запутанности, вплоть до противоречивости. Прежде всего, существует распространенная неуверенность по поводу отношений между репрезентацией и копированием. Люди хвалят и восхищаются жизнеподобной портретной и пейзажной живописью и предполагают, что она содержит личностную «интерпретацию» (Именно эта интерпретация является, по мнению многих, сутью искусства). Они сомневаются по поводу достоинств абстрактной живописи, хотя в то же время они не уверены, может ли фотография считаться искусством, поскольку она всего лишь репродуцирует, то, что существует, при помощи каузальных средств» (Graham G. Philosophy of the Arts. An Introduction to Aesthetics. L. – NY.: Routledge, 1997. P. 88).
В культуре, где представления о мире формируются преимущественно через репрезентации, трудно разграничить подобие реальности и созданный в идеологических целях конструкт, тем более принимая во внимание «правдоподобность», достигаемую при помощи технических средств, как это происходит в наши дни, когда 3Д технологии делают все более «реальным» мир сказок и фантазий.
Эта убедительность искусственно созданного образа отмечалась уже при анализе живописи, которая также является технологией репрезентации. «Перспектива, использование света и тени были важными открытиями, которые увеличили силу художника. Но, как утверждал известный историк искусства Эрнст Гомбрих в работе «Искусство и иллюзия», власть, которая дана художнику, заключается не в том, чтобы репродуцировать то, что существует, но создать убедительное впечатление того, что мы видим репрезентируемый предмет» (Graham G. Philosophy of the Arts. An Introduction to Aesthetics. L. – NY.: Routledge, 1997. P. 89).
То, что видит современный зритель на сцене или экране кинотеатра, телевизора или компьютера, призвано создать убедительнейшую иллюзию «реальности» представляемого образа, даже при полном осознании его фантастичности. Кроме того, некоторые форматы и не предполагают соотнесения образа с эмпирической реальностью. Г. Грэхем иллюстрирует это примером из популярной области визуального искусства – мультфильмов. «Трудно представить, как кто-либо мог настаивать на идее того, что репрезентация является производством подобия. Никакая мышь никогда не выглядела, как Микки Маус, а никакой древний галл никогда не выглядел, как Астерикс, и все же в этих репрезентированных персонажах нельзя сомневаться… Ошибочно думать о репрезентации в визуальном искусстве как о попытке скопировать то, что видимо» (Graham G. Philosophy of the Arts. An Introduction to Aesthetics. L. – NY.: Routledge, 1997. P. 89).
То, что ярко проявляется в визуальных формах, присутствует и в вербальных текстах, хотя в том и другом случае имеется своя специфика.
Несмотря на осознание интерпретативного характера репрезентации, остается нерешенным вопрос соотношения реальности и репрезентации, независимо от того, какими средствами она осуществляется – вербальными, визуальными или экранными. Если репрезентация – это конструкт, созданный на основе господствующих в обществе или, напротив, оппозиционных представлений, как складывается эта репрезентация, каковы влияния, которым подвергается процесс конструкции образа в том или ином тексте? Другими словами, что влияет на политику репрезентации?
Как показывает анализ множества культурных текстов, представление о различных феноменах социокультурной реальности складывается у современного культурного потребителя на основе репрезентаций, сконструированных, во многом, под влиянием моделей, разработанных в новейших направлениях культурологического дискурса, для которых важнее сам процесс конструирования, чем реальный референт. Это отличает (пост)современные исследования от традиционных академических дисциплин. «В то время как вполне верным является то, что критика в литературных и визуальных искусствах традиционно базировалась на основах, которые были экспрессивными (ориентированными на художника), миметическими (подражающими миру) или формалистскими (искусство как объект), влияние феминистской, марксистской, постколониальной и постструктуралистской теории означало прибавление чего-то другого к этим историческим основам и привело к слиянию их проблематики, но с новым фокусом: на исследовании социального и идеологического производства значения. С этой точки зрения, то, что мы называем культурой, рассматривается как эффект репрезентаций, а не как их источник. В то же время, западная капиталистическая культура показала удивительную способность нормализовать (или «доксифицировать») знаки и образы, какими бы разнообразными (или противоречивыми) они ни были» (Graham G. Philosophy of the Arts. An Introduction to Aesthetics. L. – NY.: Routledge, 1997. P. 7).
Из приведенных выше характеристик текста становится ясным полисемантичность современного понимания текста. Под текстом можно понимать и систему означающих элементов, представленных релевантными физическими чертами знака, но также «текст» часто употребляется синонимично с «произведением», и в этом смысле литературное произведение может быть названо литературным текстом. В ряде исследовательских направлений, в особенности в структуралистской литературной критике, «текст» в этом значении ассоциируется с особым взглядом на литературу, отличающим его от «произведения». Текст можно определить как последовательность знаков, однако самым главным является его значение, многообразное и неистощимое. Оно не может быть сведено к интенции автора, в нем функционируют многие составляющие, находящиеся вне его контроля (Барт Р. От произведения к тексту. // Барт Р. Избранные работы. М.: Прогресс, 1989. С. 9).
Поскольку текст стал рассматриваться как сообщение, которое можно подвергнуть анализу, в качестве теста стало возможным рассматривать не только художественные или научные произведения, но и архитектурные, живописные объекты, музыка, кино, ритуалы и обряды, социальные формы общения, одежда, дизайн, театральные и телевизионные зрелища, политические дебаты, религиозные церемонии. В постмодернистской мысли всю культуру принято рассматривать как Текст.
Текст обладает своим собственным языком, который строится на основе исходного языка, которым владеет человек. Применяя идеи семиотики к анализу искусства, Ю. Лотман «определяет искусство как «особым образом организованный язык», а произведения, созданные на этом языке, как тексты. По Ф. де Соссюру, лингвистике принадлежит язык как структура чистых отношений, а речь, являющаяся реализацией этой структуры, не предмет лингвистики. В искусстве же, по Лотману, соотношение языка и текста имеет игровой, конфликтный характер. Текст в искусстве имеет собственную структуру и свойства, не выводимые из структуры языка. Таким образом, по отношению к «естественному» языку язык художественного текста является метаязыком по отношению к вербальному компоненту и особым кодом по отношению к визуальной составляющей. В случае сочетания различных видов репрезентации, как это происходит в экранном языке, мы имеем дело с весьма сложной системой знаков и образов. Ю. Лотман назвал язык художественного текста «вторичной моделирующей системой». (Пост)современные тексты отличаются также высокой степенью интертекстуальности, которая проявляется, в теоретическом дискурсе, в постоянном цитировании и отсылками к другим работам (что происходит и в нашей работе), а в художественных текстах в имплицитном использовании самых разных фрагментов других текстов. «Писатели, которые создают тексты, – пишет Д. Харви, – делают это на основе всех других текстов и слов, с которыми они встречались, в то время как читатели обращаются с ними таким же образом. Культурная жизнь, следовательно, рассматривается как серия текстов, пересекающихся с другими текстами, продуцирующими другие тексты (включая и тексты литературного критика, который стремится продуцировать еще одну литературную работу, в которой рассматриваемые тексты свободно пересекаются с другими, которые повлияли на его или ее мышление» (Harvey, D. The Condition of Postmodernity. Cambridge, MA and Oxford, UK: Blackwell, 1991. P. 49).