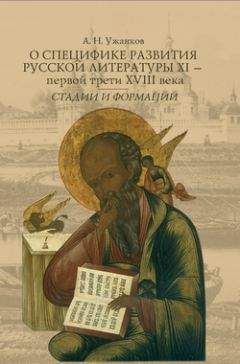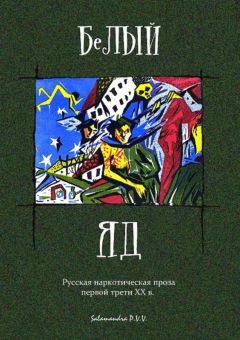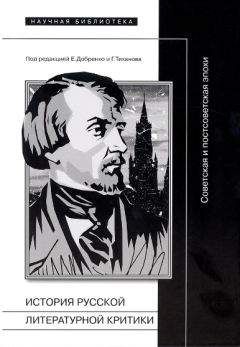Марина Хатямова - Формы литературной саморефлексии в русской прозе первой трети XX века
Из выбранных нами, кроме Замятина, прозаиков только Н. Н. Берберова в американский (преподавательский) период творчества выработала некую эстетическую программу, которая, однако, принадлежит принципиально иной эпохе (второй половины XX века) и англо-американской традиции. Исследователи отмечают близость позиции Берберовой к представителям «новой критики», развивающей идеи формального метода[38] (статьи «Подстриженными глазами», 1951; «Владислав Xодасевич – русский поэт (1886–1939)», 1951; «Набоков и его «Лолита», 1959; «Великий век», 1961; «Сов. критика сегодня», 1966; книга «A. Blok et son temps»). Несмотря на огромный публицистический корпус произведений Б. К. Зайцева и, особенно, М. А. Осоргина, удельный вес критики в нем невелик. Риторические выступления Зайцева и Осоргина не оформились в оригинальную эстетическую концепцию, а оказались включенными в смысловое поле общеэмигрантской дискуссии о миссии и путях развития русской литературы за рубежом, о сохранении традиции, о Пушкине как символе русской культуры и т. п.[39]
Имеющая характер современной эстетики и завершенной теории риторическая рефлекия Замятина, находящаяся в диалоге с важнейшими философскими и эстетическими концепциями времени (общенаучными идеями энтропии / энергии, синтеза; идеями Опояз, диалогической философии, лингвистическими учениями о языке художественной литературы и литературном языке) выполнила ту же консолидирующую роль для литературы метрополии, что и критика В. Xодасевича и Г. Адамовича[40] – в зарубежье. Если ставить своей задачей изучение эстетики и поэтики, риторической и художественной рефлексии писателя-прозаика в их целостном единстве, то творчество Е. И. Замятина представляет оформившуюся в осознанной саморефлексии эстетическую концепцию, оказавшую влияние не только на современную, но и последующую эстетическую мысль (идеи синтеза, энтропии / энергии в литературе XX века, диалогической природы искусства, теории «неореализма» и проч.).
1.1. Проблема соотношения этического и эстетического в ранней публицистике Е. И. Замятина
«Мастерство» как определенное понимание писательства осмысливается в критической и теоретической рефлексии Е. И. Замятина не в меньшей степени, чем в художественном творчестве,[41] что заставляет исследователей устанавливать связи его эстетики с теоретической рефлексией символизма в лице А. Белого.[42] Название же сохранившихся конспектов лекций, прочитанных Замятиным в 1919–1921 годы начинающим писателям по поэтике прозы – «Техника художественной прозы»,[43] – отсылает к терминологии формалистов,[44] литературоведческие достижения которых были для Замятина несомненными.[45] Остается недооцененной эстетико-теоретическая близость Замятина к акмеизму, о которой косвенно говорил сам писатель: «Символизм явно для всех состарился уже в начале войны, и наилучшим доказательством этого служит то, что даже апостолы символизма – Сологуб, Белый, Брюсов – заговорили на ином языке, языке неореализма (...). Неореализм (и, в сущности, целиком укладывающийся в него акмеизм) – несомненно, является единственным жизнеспособным литературным течением»[46]; «Серапионовы братья на первое место выдвинули вопросы мастерства и протестовали против обязательного требования от писателей работ на злободневные темы. Эта позиция, а также элементы романтизма (построенные, однако, не на абстракциях, как у символистов, а как бы экстраполирующие реальность), сближает «Серапионовых братьев» с петербургским течением акмеистов».[47] А. Генис в статье «Серапионы: опыт модернизации русской прозы» устанавливает связь Замятина с акмеизмом также через посредство «Серапионовых братьев»: «"Серапионы", преодолевая дуализм символизма, упраздняли границу, отделяющую запредельный, трансцендентный мир. «Невидимое» они считали продолжением видимого, ирреальное – законной и бесспорной частью реального. Возможно, не без влияния новых веяний в естественных науках, за развитием которых столь внимательно следил их наставник Замятин, они исповедовали «физикальность» духа. Искусство реально, как сама жизнь. Все это роднит «серапионов» c поэтикой акмеистов, к которым они относились с особым уважением. (…) Между Сциллой реализма и Xарибдой символизма «серапионы» шли курсом, проложенным акмеизмом».[48] Р. Грюбель в своей типологии автопредставлений художников к типу автора-мастера относит акмеистов и учеников Замятина «серапионов».[49]
Проблема диалога Замятина с акмеизмом поставлена в статье В. Десятова, где исследован аллюзивный «акмеистский» план романа «Мы», отмечено использование Замятиным терминов «гумилевского происхождения» («интегральный» образ, «путь наибольшего сопротивления»), проанализирован характер общения Замятина с Гумилевым и Ахматовой.[50] Проблема эстетико-теоретической близости Замятина к акмеизму остается неразработанной, тогда как именно схождение с акмеистской концепцией творчества, как и отталкивание от нее, способствует пониманию неповторимой и, одновременно, глубоко укорененной в современности эстетической доктрины Е. И. Замятина. Проследим эволюцию эстетических представлений писателя в их связи с художественным творчеством.
Первый этап критической деятельности Е. И. Замятина совпадает с началом художественного творчества и связан с сотрудничеством в «Ежемесячном журнале» В. С. Миролюбова. Небольшое количество и достаточно случайный характер рецензий на сборники и альманахи, как и собственные признания автора в письме к Миролюбову,[51] подчеркивают вторичность критической деятельности по отношению к творчеству. Несмотря на то, что потребности осмысления собственного творчества еще не возникает и Замятин выступает в своих рецензиях скорее как образованный и требовательный читатель, уже здесь формируется единство этической и эстетической установки Замятина-критика: 1) литература не должна быть успокаивающим, уводящим от жизненных проблем развлекательным чтивом («Журнал для пищеварения»); 2) художник профессионально ответственен за качество выпускаемого продукта; и главное внимание Замятин уделяет не своеобразию сюжета («Человеку с даром мало-мальским – не нужен ему мудреный сюжет»[52]), а языковому мастерству («Энергия», «Сирин»). Рецензия на альманах «Сирин» почти полностью посвящена критике языковых излишеств романа А. Белого «Петербург», которым Замятин противопоставляет гармонию ремизовских сказов: «Жалко Андрея Белого, когда станешь роман его «Петербург» читать. Легко ли это – кренделем вывернуться, голову – промеж ног, и этак вот – триста страниц передышки себе не давать? Очень даже трудное ремесло, подумать – сердце кровью обливается»[53]; «У Ремизова не суть только, но и внешность его сказов – русская, коренная».[54] Внимание к языку и повествовательной ткани произведения, высокая оценка языковых поисков Ремизова совершенно закономерны для Замятина-критика 1910-х годов, разрабатывавшего в своем художественном творчестве сложнейшие формы орнаментального сказового повествования («Уездное», «На куличках», «Алатырь», «Непутевый», «Чрево», «Старшина», «Кряжи» и др.).
Ранние критические опыты Замятина органично вписываются в основной корпус его публицистики и подготавливают более поздние статьи с их жесткой логической последовательностью и иронией, характерными и для художественной системы писателя. Уже в начале 1910-х годов Замятин воспринимает писательство не только как дар, но и каждодневный труд, ремесленную работу. В одном из писем В. С. Миролюбову в августе 1913 года он «прозаизирует» известную мандельштамовскую поэтическую формулу «красота – не прихоть полубога, а хищный глазомер простого столяра»: «…Полежал рассказ, перечитал я его еще раз – тут, на мой глаз, торчит, там торчит – надо еще постругать немного».[55]
Командировка в Англию на время прерывает критическую деятельность Замятина, которая возобновляется по возвращению писателя в Россию. 1918 год издатели сборника критических статей Е. И. Замятина «Я боюсь» называют «подлинным началом Е. И. Замятина – критика и публициста».[56]
В 1918-1919-х годах Замятин сотрудничает в органе правых социалистов-революционеров «Дело народа» как публицист под псевдонимом Мих. Платонов. Проблематика статей Замятина этого периода («Елизавета Английская», «Презентисты», «Скифы ли?», «О служебном искусстве», «Домашние и дикие», «О лакеях», «О равномерном распределении», «Они правы», «Бунт капиталистов», «Великий ассенизатор», «Последняя страница», «Беседы еретика», «Завтра» и др.) остро политическая. Замятин обвиняет победившую власть в предательстве собственных идеалов и, прежде всего, идеи свободы и сосредоточивается на осмыслении свободы печати, роли искусства и литературы в новом обществе. «Еретическая» позиция как единственно возможная этическая модель поведения художника в любом обществе («наш символ веры – ересь», «мир жив только еретиками») явилась и продолжением более ранних представлений Замятина о литературе как совести нации, и реакцией на массовое приспособленчество деятелей культуры к политике новой власти. Резкой критике Замятина подвергаются не только пролетарские писатели и футуристы, но и «Скифы», и даже А. А. Блок. Пафос послереволюционных статей Замятина связан с отстаиванием свободного слова, роль которого в эпохи подавления личности государством неизмеримо возрастает: «И они правы: те, кто поил цикутой Сократа; те, кто распинал Галилеянина; те, кто гнал в каторгу революционеров; те, кто теперь заткнул рот печати. Они правы: свободное слово сильней тяжеловооруженных, сильней легионов, сильней жандармов, сильней пулеметов».[57] Тема свободы личности (и свободы слова) стала личной замятинской темой еще до революции. В Англии были написаны «Островитяне» и «Ловец человеков», а в России – «Сказки про Фиту», явившиеся «подготовительной работой» к роману «Мы», в котором свобода личности неразрывно связана с пониманием сути писательства.