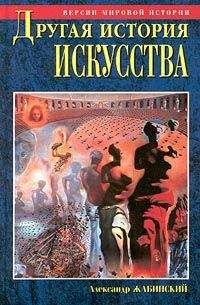Александр Жабинский - Другая история литературы. От самого начала до наших дней
Увидав, что ее предали, и услышав, какими словами называет ее муж, который не желал даже ее выслушать, и зная, что спастись невозможно, она приготовила себя, как умела, к смерти, ревностно исповедалась, предав себя в руки господа и лишь печалясь о том, что имя ее останется покрытым позором. В этот же день по приказанию синьора она была брошена во дворик ко львам. Толпы людей сбежались поглядеть на столь страшное зрелище. Пути господни неисповедимы, и трудно их познать. Но господь бог всегда спешит на помощь невинным. Женщина преклонила колени, отдавая на милость его свою жизнь и свою честь.
Когда открыли яму, львы мирно приблизились к женщине, ласкаясь к ней, словно она их выкормила. Когда народ увидел это, – а львы все продолжали ласкаться к женщине, – все в один голос воскликнули: «Чудо! Чудо!» Синьор, уразумев случившееся, велел привести к себе из тюрьмы юношу. Увидев это, проклятый мажордом вскочил на лошадь, пытаясь спастись бегством. Но господь бог, желавший его наказать, сделал так, что лошадь не двинулась с места. Допрошенный юноша рассказал, как все было на самом деле. Тогда синьор велел освободить невинную женщину, а на ее место бросить предателя, который признался, что со зла оклеветал свою госпожу, рассчитывая, что синьор немедленно убьет простака, когда увидит, как тот выходит из спальни. Итак, разбойника бросили во дворик, и львы тут же растерзали его на тысячу кусков.
Зная простоту придурковатого юноши, ему не сделали ничего дурного и лишь удалили его от двора и от синьоров. Дама же, как и раньше, продолжала пользоваться уважением своего супруга и всех окружающих, и муж без конца умолял ее простить ему, говоря, что он, поддавшись гневу, не разобрал хорошенько дела и легко поверил злым наветам негодяя и предателя – своего мажордома.
Каждому не мешало бы быть менее легковерным и не принимать на веру то, что ему говорят, особенно когда говорят что-нибудь дурное. Ведь приходится наблюдать повсюду – и при дворах государей также, – что люди, желая угодить своему синьору и приобрести его милость, придумывают всякие небылицы и стараются очернить то одного, то другого, а чтобы показать, что они, мол, делают это, оберегая честь своего хозяина, иногда говорят хорошо о том, кому в душе желают зла, но в последнюю минуту подливают каплю яду и прибавляют:
«А ведь он сделал так-то и так-то, и доверять ему нельзя, он ведет двойную игру». И так хорошие поступки толкуют на дурной лад. От таких клеветников надо бежать как от чумы, да они и на самом деле чума и зараза как для дворов, так и для частных домов и нередко бывают причиной больших бед.
Но вернемся к тому, на чем мы остановились. Так вот скажу я вам, что дама милостиво простила своего мужа и рассказала ему о настойчивых и наглых домогательствах злодея мажордома. Синьору тогда очень захотелось снова увидеть предателя живым и поглядеть, как огромные львы разрывают его на мелкие кусочки, ибо он считал, что тот за свою гнусность заслуживает тысячу самых ужасных казней. Потом синьор приказал лучшим скульпторам при входе в замок высечь на мраморе всю эту историю, чтобы память о ней осталась навеки. Это тончайшее изображение и сейчас может видеть всякий, кто захочет пойти поглядеть на этот замок.
Вот каков был несчастный исход недостойных домогательств бесчестного и вероломного слуги, заслужившего более суровую и горькую смерть, чем та, что его постигла. Итак, можно поистине сказать, что дела, начатые с дурными целями, редко приводят к благополучному концу, и, наоборот – начатые с благими намерениями, кончаются всегда хорошо и счастливо».
Отметим в этом средневековом рассказе совершенно древнеримский сюжет, а именно право хозяина кормить львов богобоязненными членами своей семьи, а также слугами. Написано, напомним, в XVI веке о французских событиях, хотя и из «прошлой жизни», о чем автор предупреждает вначале.
А теперь приведем японскую новеллу. Рассуждения о мужчинах и женщинах в книге японской писательницы Мурасаки-сикибу «Повесть о Гэндзи», написанной в конце Х – начале XI века могут быть отнесены к линии № 9 они соответствуют европейскому уровню этой же линии веков, – это реальный XVII век. Произведение можно поставить рядом с такими же работами как «антиков», так и авторов европейского «Возрождения»: это время одной культуры.
Мурасаки-сикибу – дочь придворного ученого, а ее повесть называют вершиной придворной прозы и всей раннесредневековой японской литературы. Это – художественная эпопея почти с тремястами действующими лицами, рисующая жизнь нескольких поколений. «Многочисленные женские портреты повести поражают тонкостью психологических характеристик», – пишут об этом произведении литературоведы.
XVI–XVII века. Мурасаки-сикибу. «ПОВЕСТЬ О ГЭНДЗИ»:[20]«… – Дело вовсе не в том, что нам нравится перебирать женщин, потакая собственному любострастию. Нет, просто каждый хочет найти одну-единственную, способную стать ему надежной опорой в жизни. В конце концов, все равно придется остановить на ком-то свой выбор – от этого никуда не уйдешь, потому-то и хочется отыскать женщину если не совершенную, то по крайней мере не вовсе дурную, которая не требовала бы постоянного внимания и не имела бы неискоренимых пороков. Но, увы, даже это нелегко.
Бывает, что мужчина, полагая для себя невозможным порвать однажды завязанные узы, оказывается соединенным с женщиной, которая ему вовсе не по душе. Имя его овеяно славой честного мужа, а в женщине, с ним связанной, предполагают особые душевные качества. И все же… Поверьте, сколько любовных союзов ни видел я на своем веку, ни один не показался мне безупречным…
Женщины молодые, миловидные о том лишь заботятся, как бы какая пылинка к ним не пристала. Получишь от такой письмо – слова самые утонченные, строки бегут тончайшей паутинкой, словно кисть едва касалась бумаги, и взволнуешься, конечно. Начнешь мечтать: «Как бы рассмотреть ее получше?» – но всевозможными уловками тебя заставляют ждать. Когда же удастся приблизиться к ней настолько, чтобы голос ее услыхать, она, ловко скрывая свои недостатки, старается говорить как можно меньше, да к тому же так тихо, словно не слова, а вздохи срываются с ее губ. Покоренный ее кроткой женственностью, сблизишься с ней, окружишь заботами, а она окажется ветреницей. Ветреность же должно считать наипервейшим для женщины пороком.
Поскольку важнейшей обязанностью женщины является забота о муже, можно подумать, что ей ни к чему изысканные манеры, умение проникать в душу вещей и по любому поводу высказывать свою чувствительность. Однако же разве лучше, когда женщина, словно простая служанка, постоянно хлопочет по дому с озабоченным выражением лица и волосами, заложенными за уши, совершенно не заботясь о впечатлении, которое производит? Станешь ли ты рассказывать постороннему человеку о том, что произошло на службе, какие новости при дворе и в том или ином семействе, что случилось хорошего, что дурного, – словом, обо всем, что поразило зрение, взволновало слух? Разумеется, каждому захочется поделиться с человеком близким, способным выслушать его и понять. А что остается мужу такой особы? Он то смеется над собой, то плачет. Вот что-то рассердит его, возмущение просится наружу, но – «что толку ей о том рассказывать?» – подумает и, отвернувшись, улыбается потихоньку своим мыслям или вздыхает тайком, а жена лишь растерянно глядит на него снизу вверх: «Да что это с ним?» Ну, разве не досадно?
Казалось бы, можно взять жену по-детски простодушную, кроткую и самому заняться ее воспитанием. Как ни много с ней забот, приятно чувствовать, что старания твои не напрасны… И в самом деле, видя такую женщину рядом с собой, многое ей прощаешь – уж очень она мила. Но что делать, ежели придется оставить ее на время одну? Наставляешь ее, как полагается, однако даже с самыми простыми повседневными обязанностями не умеет она справиться самостоятельно, ни на что недостает ей разумения, будь то важное дело или какой-нибудь пустяк. Обидно до крайности, да и как положиться на нее? Так вот и мучишься. Напротив, женщина обычно суровая, неласковая может вдруг проявить себя с лучшей стороны.
Ума-но ками говорил так, словно не было для него тайн в мире, но, увы, и он не смог прийти к какому-то определенному заключению и только вздохнул:
– Оставим же в стороне вопрос о происхождении и не будем говорить о наружности. Если женщина не проявляет удручающе дурных наклонностей, если она благоразумна и не строптива, этого вполне достаточно, чтобы решился остановить на ней свой выбор. Благодари судьбу, если обнаружишь в супруге редкие дарование и душевную чуткость, и не старайся придирчиво выискивать недостатки. В женщине важен кроткий, миролюбивый нрав, а дополнить эти качества высшей утонченностью не так уж и мудрено.
Бывают женщины нежные и робкие, которые в любых обстоятельствах стараются подавлять жалобы и притворяться спокойными и беззаботными. Такая не упрекнет мужа даже тогда, когда он этого заслуживает. Все обиды копит она в сердце, когда же чаша терпения переполнится, изольет душу в невыразимо горьких словах или в трогательной песне и, оставив мужу дар, на который глядя должен он, о ней вспоминая, мучиться угрызениями совести, скрывается в горной глуши или на диком морском побережье и живет там, отрекшись от всякого сообщения с миром. Когда я был ребенком, и дамы рассказывали при мне подобные истории, я неизменно чувствовал себя растроганным: «Что за печальная, прекрасная судьба! Как это возвышенно!» – и даже ронял слезы. Теперь же поведение таких женщин представляется мне вызывающе легкомысленным и неразумным. Право же, нелепо оставлять любящего тебя мужа потому лишь, что он показался тебе недостаточно внимательным, убегать и прятаться, делая вид, что тебе неведомы его истинные чувства, повергать сердце мужа в тревогу, осуждать себя и его на долгие годы страданий только ради того, чтобы испытать, постоянен ли он в своих привязанностях. А ведь воодушевленная похвалами окружающих («Ах, как глубоко умеет она чувствовать!»), такая женщина может даже постричься в монахини. Решаясь на столь опрометчивый шаг, она искренне верит, что сердце ее совершенно очистилось и ничто больше не привязывает ее к бренному миру. Но вот кто-то из давних знакомых заходит ее проведать: «Печально сознавать… Как вы могли…» Весть о перемене в ее судьбе доходит и до мужа, который так и не сумел ее забыть, и он льет горькие слезы, о чем ей незамедлительно сообщает кто-нибудь из служанок или престарелых кормилиц: «Господин искренне привязан к вам, а вы… Ах, какое горе!» И вот уже она сама с ужасом ощупывает волосы у лба, бессильное отчаяние овладевает ею, и лицо искажается от сдерживаемых рыданий. Как ни крепится она, слезы текут по щекам, и с каждой каплей все более нестерпимым представляется ей ее нынешнее положение и все сильнее мучит раскаяние. Пожалуй, и сам Будда подумает, на нее глядя: