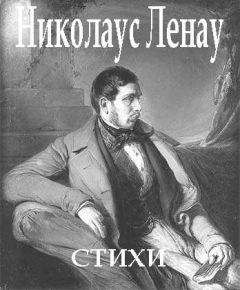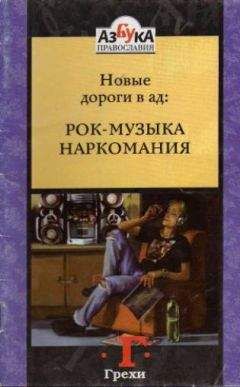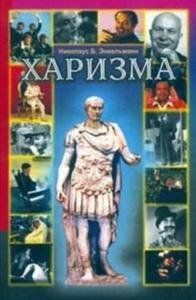Николаус Арнонкур - Музыка языком звуков. Путь к новому пониманию музыки
Найденную возможность выражения аффекта сильнейшего возбуждения Монтеверди называет “stile concitato”. С того времени повторение звуков используется как выразительное средство, a concitato становится повседневным композиторским приемом. В равной мере такое определение, как и его музыкальное соответствие в XVII и XVIII столетиях, применялось в том значении, которое придал ему Монтеверди. Репетиции такого же типа встречаем у Генделя и даже у Моцарта. Монтеверди пишет, что сначала музыканты уклонялись от шестнадцатикратной игры одного звука в одном такте. Были поражены: от них требуют исполнения чего-то музыкально абсолютно неуместного, тем более что репетиции звуков в строгом письме запрещались. Прежде всего требовалось объяснить, что здесь они имеют “внемузыкальное”, драматическое, экспрессивно-чувствительное значение.
Благодаря concitato в музыку проникает нечто, чего еще не было: чисто музыкальный элемент, касающийся движений тела. Итак, подходим к важному аспекту музыкальной драмы. В драме невозможно представить диалог и развитие обстоятельств без действия: мимика, жест и движение всего тела нераздельны. Актер не может исполнить роль без определенных телодвижений. И насколько заново открытый Монтеверди драматический язык звуков интерпретирует и укрепляет экспрессию слова, настолько же и содержит в себе физическую акцию, акцию тела. Монтеверди был первым великим музыкальным драматургом, который использовал жест как элемент инсценизации. По моему мнению, музыкальная драма лишь тогда начинает существовать, когда содержит все вышеупомянутые элементы, объединенные с языком телодвижений.
В текстах опер или мадригалов существуют определенные, постоянно возвращающиеся слова-импульсы, с которыми связаны соответствующие им музыкальные фигуры. Постепенно — начиная от теории Каччини и его коллег, через Монтеверди, достигшего вершин совершенства, — подошли к формированию каталога музыкальных фигур. Монтеверди зашел так далеко, что применял разные фигуры, придавая какому-то одному слову разнообразное произношение, благодаря чему оно каждый раз приобретало иное значение, соответствующее данному контексту. Так интерпретация слов определялась самим композитором. С подобной ситуацией мы сталкиваемся разве что у Моцарта, а потом у Верди.
Произведения, написанные первой генерацией оперных композиторов, стали основой для обширного каталога фигур определенного значения, известных каждому просвещенному слушателю. Со временем пришли к обратной связи — отдельные музыкальные фигуры могли использоваться самостоятельно, без текста: слушатель помнил их первичное значение и воспринимал как конкретные рассказы. Такое перенесение начального вокального словаря в инструментальную музыку имеет огромное значение для понимания и интерпретации барочной музыки, произрастающей из древнейших проявлений декламационного пения, которое Монтеверди возвел до ранга большого искусства.
Благодаря этому становится понятной родственная связь между инструментальной и вокальной барочной музыкой. Здесь источник особого диалога между музыкальными построениями “абсолютной” музыки: сонат XVII и XVIII столетий, тогдашних концертов и даже симфоний, возникших уже в эпоху классицизма. Эти произведения, очевидно, сочинялись, исходя из характера речи, и часто инспирировались конкретной или абстрактной риторической программой.
Постепенно репертуар фигур, использовавшихся в монодии и речитативе, стал настолько обособленным, что около 1700 года начал восприниматься как каталог инструментальных оборотов. Бахом же снова применен в вокальной музыке. (Может, поэтому многие певцы считают музыку Баха сложной для пения, поскольку написана как бы слишком “инструментально”). Если внимательнее присмотреться к отдельным применяемым Бахом фигурам, — легко заметить, что они происходят из мелодической структуры речи. Это, собственно, и является дальнейшим развитием фигур, сформированных в монодии и декламационном пении, а также приобретением ими еще большей самостоятельности. У Баха риторическая составная указана исключительно отчетливо; он сознательно опирался на учение Квинтиллиана и в соответствии с его правилами писал свои произведения — причем настолько подробно, что правила те можно изучить заново в Баховских композициях. При этом использовал — спустя сто лет после Монтеверди — весьма усовершенствованный словарь языка звуков, перенесенный из итальянского языка в немецкий. Это перенесение было связано со значительным обострением акцентов. (Представители романских народов тех времен и так считали звучание немецкого языка сплошь твердым и “визгливым”, с чрезвычайно четкими акцентами). У Баха прежде всего бросается в глаза то, что весь арсенал контрапунктических средств объединен с принципами риторики.
Открытие монодии едва не привело к первой музыкальной “чистке”, которая могла бы стать причиной уничтожения музыки как таковой, если бы все руководствовались догматами “флорентийцев” и категорически отвергли бы мадригал и контрапункт — к чему шло примерно в 1600 году. Очевидно, такое было невозможным, ибо и сам Монтеверди после ознакомления с новым стилем монодии в целом не отрекся от сочинения, например, многоголосных мадригалов. Это стало источником необычайной стилистической разнородности, присутствующей у него даже в рамках больших композиций. В обеих поздних операх три техники — напевный разговор, разговорное пение и пение — на самом деле четко различаются, но в пении он иногда снова использует контрапунктические элементы давнего искусства мадригала.
У Баха искусство контрапункта, названное “prima prattica”, в отличие от новейшей драматической монодии, названной “seconda prattica”, получило такое значение, что имитационный и фугированный стиль снова был воспринят и в светской вокальной музыке. Так снова появляются произведения (как в нидерландской и итальянской музыке до 1600 года), в которых тексты не пелись одновременно, а накладывались террасами друг на друга, хотя отдельные голоса уже использовали отдельные фигуры. Музыкальный язык и музыкальная драматургия также использовались иначе — как дополнительное средство выразительности полифонического стиля (такого сложного мира контрапункта), примененное риторически и драматически.
Следующий этап эволюции приводит к Моцарту. Он обладал — как в свое время Монтеверди — знанием и умением использовать все известные к тому времени средства контрапункта, получившие свое развитие в период барокко. В послебаховские времена начался отход от сложной позднебарочной музыки, понимаемой только ограниченным кругом посвященных, в сторону новой музыки, “натуральной”, которая должна была стать настолько простой, чтобы ее мог понимать каждый человек, даже не слышавший никогда музыки. Моцарт решительно отверг концепции, лежавшие в основе послебаховской “чувствительной” музыки. Слушателя, который признавал ту или иную вещь прекрасной, ничего в ней не понимая, он называл именем “Papageno” (ит. — попугай), приобретавшее в его устах особенно отрицательное значение, — и подчеркивал, что сам пишет исключительно для знатоков. Придавал огромное значение тому, насколько он понятен именно для “настоящих знатоков”, и считал, что его слушатели разбираются в музыке и достаточно образованы. В те времена именно в околомузыкальной среде все чаще случалось, что люди вообще без образования с видом непревзойденных знатоков провозглашали приговоры, от чего Моцарта не раз охватывала ярость. Отец предостерегал Моцарта во время написания “Idomeneo” (декабрь 1780) от обращения исключительно к знатокам: “... советую тебе, чтобы в своей работе ты думал не только лишь о музыкальной публике, но и немузыкальной (... ), не забывай про так называемое popolare, щекочущее также и длинные уши (ишаков)”.
Хотя Моцарт имел в своем распоряжении весь арсенал выразительных средств позднего барокко, однако для реализации задуманной музыкальной драмы не мог воспользоваться как исходным пунктом схемой итальянской оперы seria, да еще и в ее застывшей форме. Поэтому перенял некоторые элементы французской оперы, где чисто музыкальная субстанция всегда подчинена языку (там вообще не было арий). Таким образом, сам того не подозревая, в какой-то мере предвосхитил возникновение музыкальной драмы. Зависимость от текста во французской опере XVIII века более четкая, чем в итальянской, где внимание концентрировалось на огромных схематических ариях. В каждой опере появлялась ария мести, ария зависти, ария любви или — в финале — ария “все снова хорошо”; собственно, ее можно было трактовать по-разному, что довольно часто практиковалось. Вместе с тем во французской опере сохранялись еще давние формы: речитатив, ариозо и маленькая ария; это и привело к тому, что она более соответствовала в качестве отправного пункта драматургической реформе, нежели итальянская opera seria. Теоретические основы той реформы наиболее ясно выразил Глюк, однако на практике только Моцарт придал музыкальной драме ощутимую весомость.