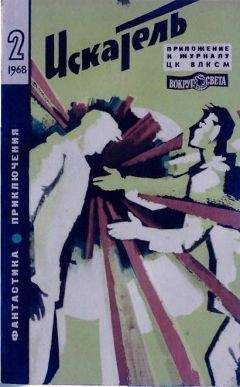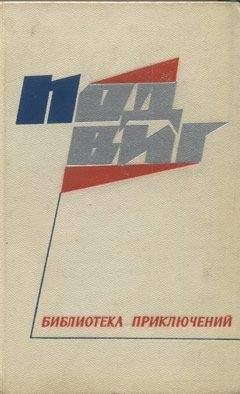Глеб Глинка - Погаснет жизнь, но я останусь: Собрание сочинений
Дальше авторы резолюции много говорят о методе интуитивизма теории Воронского и затем переходят к отдельным положениям, которые от имени «Перевала» выдвигает Лежнев в седьмой книге «Ровесники».
«<...> Постановка проблемы об «искренности» у «Перевала» имеет лишь тот смысл, что она противопоставлена проблеме классово-политической направленности творчества. Материалистическая диалектика знает только один объективный критерий художественности — соответствие формы и содержания творчества объективной действительности, но она не отрывает этот критерий от классовой природы художника, целиком и полностью исходит из критерия классовой практики. Между тем школа Воронского глубоко безразлична к тому, что именно выражает художник, лишь бы он выражал это искренно. Тем самым наперед оправдывается любое реакционное и ложное содержание.
…В качестве прообраза идеальной творческой личности выдвигается лозунг «моцартианство» как тип художника-избранника, наделенного высшей творческой интуицией, абсолютно независимого и свободного в своих вкусах и общественных симпатиях. Проблеме «моцартианства» посвящена повесть Слетова «Мастерство», которую «Перевал» считает своей программной вещью. Объективный смысл лозунга «моцартианство» в Слетовской повести заключается в пропаганде жреческо-аристократического взгляда на роль художника. Трагедия «истинного творца» в изображении Слетова является злобной и реакционной клеветой на нашу революцию. Идеализация «моцартианства» и унижение «сальеризма» имеет в наши дни лишь тот объективный смысл, что этой антитезой подчеркивается стремление определенной части интеллигенции оставить за собой монополию на художественную культуру.
… Наконец достойное свое увенчание эта система глубоко реакционных идей находит в политическом лозунге «нового гуманизма». Последовательно изолируя в своей теории художника и творчество от классовой борьбы, «перевальцы» докатились до того, что в дни жесточайших классовых битв противопоставили борющемуся классовому человеку пролетариата — человека вообще, человека с большой буквы, живого человека.
… Мелкобуржуазная по своим основным установкам группировка «Перевал», в которой и раньше были довольно сильно развиты реакционные, антипролетарские тенденции, ныне сделала еще один, весьма значительный шаг в сторону идеологических позиций классового врага социалистической революции, став целиком и полностью на позиции буржуазного либерализма в литературе.
…Даже невооруженным взглядом сравнительно нетрудно обнаружить, что литературно-политические позиции нынешнего «Перевала» представляют собой перепевы и дальнейшее «углубление» реакционных взглядов основателя и первого вождя школы Воронского. Тому свидетельством непрекращающиеся злобные нападки Горбова и др. на пролетарский сектор литературы, систематические попытки огульной дискредитации революционного фланга непролетарской литературы, клеветнические заподазривания ряда близких пролетариату писателей в подхалимстве и приспособленчестве, брезгливо-высокомерное третирование всякой «злободневной», политически направленной литературы как «красной халтуры».
Эту работу «Перевала» по заслугам оценила белоэмигрантская печать, целиком солидаризировавшаяся со взглядами Лежнева на советскую литературу.
Из всего сказанного вытекает, что теория и практика «Перевала» выполняют чрезвычайно реакционную и вредную социально-политическую функцию. Проповедь определенного типа творческого поведения является всегда проповедью определенного поведения общественного. Реакционными являются проповедь интуитивно-бессознательного отношения к миру, проповедь пренебрежения к самому передовому мировоззрению, проповедь замыкания в узком кругу «подкожных» переживаний, бегство от классовой борьбы, проповедь снисхождения к «человеку» независимо от его классовой природы».
В заключительной части декларации говорится о том, что отдельные члены содружества не могут быть поставлены в один ряд с идеологическими руководителями школы. Так была сделана попытка расколоть «Перевал». Отделить художников от теоретиков и переманить их на свою сторону.
Содружество всё же не распалось, но напугать и заставить многих писателей покинуть «Перевал», конечно, удалось. В эти дни вышли из объединения, официально об этом заявив: П. Павленко, П. Дружинин, Е. Эркин, Наседкин, А. Новиков, В. Кудашев, А. Малышкин, Амир Саргиджан, Н. Колоколов. И тогда же появилось письмо Пришвина, о котором мы уже говорили выше.
Под конец всего этого затянувшегося, но не ослабевающего разгрома «Перевала» не только враги его, но писатели, кровно не заинтересованные в судьбе содружества, да и сами перевальцы были уверены, что конец «Перевала» действительно близок, что вслед за разоблачением последуют так называемые «оргвыводы» ЦК партии, иначе говоря, соответствующим органам будет предписано ликвидировать нераскаявшийся «Перевал» полицейскими мерами. Эта угроза и способствовала бегству из «Перевала» даже самых старых его членов, вроде Наседкина и Дружинина. Но тогда не произошло окончательного расчета: он пришел позднее. Ликвидация «Перевала» не была отменена, но отложена до времени решительной расправы со всеми «уклонистами», которым пока велся надежный учет и за поведением которых наблюдали все, «кому сие ведать надлежит».
Чисто внешним мотивом подобной отсрочки послужила вначале кампания контрактации писателей, с посылкой их в колхозы, совхозы и на фабрики и новостройки. Перевальцы охотно откликнулись на призыв отправиться «на места» и в то же лето 1930 года разъехались кто куда. По возвращении решено было подождать новых перевальских произведений, которые начали появляться только в конце 1931 года, а в начале 1932 года подоспело «историческое» постановление о роспуске литературных группировок. А затем интересы руководителей литературной общественности были прикованы к организации Союза советских писателей. Таким образом, «Перевал» как литературная организация закончил свое существование вместе со всеми другими литературными объединениями. Но счеты с перевальцами, которые, разумеется, и после роспуска группировок продолжали общаться друг с другом, были сведены позднее.
Весьма любопытно, что во время дискуссий «Перевалу» инкриминировался его термин «живой человек», но в дальнейшем, в конце тридцатых годов, термин этот сделался не только допустим, но стал просто общеобязательным, например в контексте: «Сталинская забота о живом человеке». Правда, тут есть объяснение — советское общество было к этому времени уже официально объявлено бесклассовым. Однако оставаться «живым» в нем имел право только «новый человек» — непосредственный участник сталинских пятилеток, то есть беспрекословный слуга, старательный исполнитель воли партии и ее верховного диктатора.
Несмотря на то, что многие перевальские положения и даже отдельные термины были впоследствии использованы сторонниками казенного мировоззрения, «Перевалу» было совершенно невозможно договориться со своими оппонентами прежде всего потому, что даже заимствованные у «Перевала» понятия приобретали здесь иное значение и меняли свою окраску.
«Когда «Перевал» заговорил об искусстве видения, с ним спорили, но во многом соглашались, — пишет Лежнев в седьмом сборнике «Ровесники», — но когда он заявил, что описательный реализм недостаточен, что нужен какой-то другой, более высокий тип экспериментального реализма, что нужно искусство, для которого бытовая данность является лишь материалом, — все с возмущением стали упрекать его в том, что он отойдет от позиции реализма. А когда наконец в «Перевале» послышались голоса, утверждавшие трагедийность искусства, тут негодованию всевозможных критических «подмастерьев» не было предела.
Между тем оно основывалось на простом непонимании термина (а вместе с тем и некоторых других элементарных вещей). Трагедийное не есть трагическое, а трагическое не есть то, что под ним понимает обыватель. У нас трагическим называют всякий несчастный случай. Попал человек под трамвай — трагическая гибель. Пристрелил нечаянно из ружья товарища — трагическая неосторожность. Таким образом, привыкают думать, что трагическое есть то, что плохо кончается. И понятно, что когда люди, для которых мерило трагизма — самоубийство и хроника происшествий, слышат о трагедийности искусства, они в ужасе восклицают: «А, вы хотите, чтобы искусство покалывало разных несчастных людей и говорило о том, что жизнь — тяжелая и скверная штука! Вы — явные упадочники!» Но трагедийное искусство не значит вовсе пессимистическое искусство, оно даже не включает обязательным ингредиентом трагический конец. Зато в нем обязательно присутствует момент катарсиса, разрешения. Трагедийно искусство Бетховена, но это величайшее по жизнеутверждению искусство: трагический конфликт в нем разрешается победой воли, радости, энтузиазма. Трагедийное искусство — то, которое берег основные конфликты эпохи, ставит их во всей глубине и значительности, не урезывая их и не смягчая, не боясь их резкости, и старается их так или иначе развязать. Какова будет эта развязка, будет ли трагедийное искусство трагичным, минорным, или жизнеутверждающим, мажорным, — зависит от тонуса эпохи, от социально-общественной позиции художника и т.д. Но всегда его смысл и оправдание будет в том, что это — большое, серьезное искусство, чуждое дешевого благополучия и чиновничьей благонамеренности, не старающееся покрыть всё розовым лаком идиллии, поскорее примирить непримиримое и дать восторжествовать неизбежной добродетели. И если оно радостно — его право на радость куплено дорогой ценой. Короче, вы хотите знать, что такое трагедийное искусство? Это такое искусство, в котором невозможны Жаровы и Безыменские».