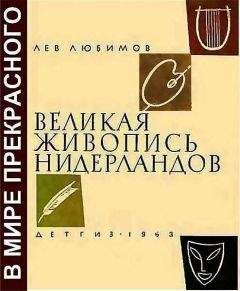Людмила Черная - Антропологический код древнерусской культуры
Русские авторы переходной эпохи в своих сочинениях не всегда касались мировоззренческих вопросов соотношения плоти и души, естества и самовластия, внешнего и внутреннего в человеке и т. п. Хотя в творчестве митрополита Илариона, по верному наблюдению В. В. Милькова, «не нашло отражения восточно-христианское учение о самовластии»,[294] однако проблема свободной воли ставилась им в связи с выбором вероисповеданий князем Владимиром, с отказом от «закона» (Ветхого Завета) и предпочтением «благодати» (Нового Завета).
В словах и поучениях древнерусских авторов XI–XIII вв., в частности у Кирилла Туровского, тема самовластия также слабо затронута, но есть четкая версия его понимания естества человеческого, ответственности души за грехи плоти. Для Кирилла Туровского характерно образно-символическое толкование известных христианских притч и сюжетов по образцу своих великих предшественников – Иоанна Златоуста, Григория Назианзина, Епифания Кипрского и др. Поэтически осмысливая и воспевая «веру Христову» через образ весны, он делал акцент на появлении нового человека с иной, чем у язычника, природой-естеством, в котором преобладает уже не тело, а душа: «земля же естьства нашего аки семя слово Божие приемши и страхом его болящи присно, дух спасения ражаеть».[295] Среди сочинений Кирилла специалисты насчитывают 8 слов на церковные праздники, 30 молитв, 2 канона, а также ряд наиболее популярных слов, поучений и притч, среди которых выделяются «Притча о душе и теле», «Повесть о белоризце и о мнишестве», «Сказание о черноризцем чине». Обращает на себя внимание обилие торжественных слов на двунадесятые праздники и на воскресные дни пасхального цикла, что несомненно вызывалось потребностями новой веры, так как необходимо было разъяснить смысл основных евангельских событий пастве. Закономерно также и создание 30 молитв, бывших как бы личным вкладом писателя в процесс христианизации и отражающих личностный характер культуры того времени, когда культурные импульсы направлены от человека к Абсолюту.
Молитва (как и чтение душеполезных книг) именовалась «духовной пищей», которой следовало питать душу постоянно, ибо лишаемая ее душа ослабевает так же, как плоть без пищи телесной: «Молитвы же душевныя пища не отлагаи, яко же бо тужить тело и отнемагаеть пиштя лишаемо, тако душа молитвьныя сладости лишаема, на расслабление и умьртвие умьное приближаеть ся».[296] Сочинение молитв в ту пору было широко распространенным делом, а содержание молитв носило порой глубоко личный характер, люди рассказывали о себе, своих близких и просили помощи и покровительства в конкретных бедствиях, болезнях, делах и начинаниях. Образцы подобного рода имеются в Трирской Псалтыри, сборниках разнообразного характера и др.
Особо следует сказать о том, что душа как таковая рассматривалась лишь в мужском варианте, женская душа вообще не фигурирует в рассуждениях как переводных, так и русских книжников. Женщина как бы оказывается за пределами духовной интерпретации человека, оставаясь телесной единицей. По библейской версии Творения она, созданная из ребра Адама, имеет лишь телесную сущность, а будучи первой прельщена от дьявола и совратив мужчину на вкушение запретного плода от древа познания добра и зла, навечно попадает на сторону дьявола, становясь «сосудом греховным». По отношению к мужчине-Душе, субъекту, женщина-Тело превращается в абсолютный объект, на который и через который могут действовать злые силы. Самым страшным для мужчины считается отдать свою душу женщине: «Не даждь жене душа своея, наступити еи на крепость твою», «…еда како уклонить ся душа твоя на ню и духом своимь поплзнеши ся в пагубу зле».[297]
В литературе XI–XIII вв. на разные лады варьировались эти два постулата о женщинах: во-первых, о превосходстве мужчины и опасности подпасть под волю своей жены, а во-вторых, о женской злобе и преобладании злых жен, а не добрых. Более всего этими сюжетами интересовались, конечно же, «мирские притчи», на которые ссылается автор «Моления Даниила Заточника»: «Глаголеть бо в мирскых притчах: не скот в скотех коза; ни зверь в зверех ожь; ни рыба в рыбах рак; ни потка в потках нетопырь; не муж в мужах, иже ким своя жена владеет…».[298] Здесь приводится и библейская аргументация того положения, что «несть на земли лютеи женской злобы. Женою сперва прадед наш Адам из рая изгнан бысть; жены ради Иосиф Прекрасныи в темници затворен бысть; жены ради Данила пророка в ров ввергоша, и лви ему нози лизаху». К этому времени образ злой жены как дьявольского орудия уже сложился полностью и включал в себя, прежде всего, характеристики, подчеркивающие ее связь с дьяволом. На вопрос: «Что есть злая жена?» – давался пространный ответ, в котором доминирует именно определение «бесовский»: «…кощунница бесовская …в церкви бесовская мытница …острое оружие диаволе…». Чтобы жена стала «доброй», она должна быть полностью лишена свободы воли и подвластна мужу. Апостолу Павлу приписывались слова: «крест есть глава церкви, а муж жене своеи». «Доброта» жены выражалась в отношении к мужу, а не сама по себе: «Добра жена венец мужу своему и безпечалие, а зла жена лютая печаль, истощение дому».[299]
Необходимо учитывать, что культура переходного времени еще во многом оставалась языческой, на что постоянно указывали в своих поучениях церковные авторы. Человек воспринимался и оценивался еще по старым дохристианским параметрам, где тело превалировало над душой. Продолжались языческие пиры и тризны, братоубийственные войны, кровная месть, узаконенная даже в начальной статье «Русской Правды», принятой спустя почти полвека после введения христианства. Телесное начало по-прежнему преобладало в быту и нравах русских; по-прежнему излишне много пили, ели, вели разгульную жизнь, имели внебрачных детей и т. д. В поучениях черного и белого духовенства постоянно звучали обличения неправедной жизни своих современников.
Показательно в этом отношении «Поучение Моисея о безвременьнемь пияньстве», созданное, скорее всего, где-то в 1170—1180-е гг. игуменом новгородского Антониева монастыря. В первых же строках его содержится указание на меру желаний человеческих, заложенных Богом в свое создание: «Бог вложил есть всякое похотенье человеку духовным и телесным делом: спанию время и мера, похотению ядению время и мера, питию время и мера, женоложью похотению время и мера, – что ли боле в имена писати? Всему есть похотению время и мера уречено, живущему в вере честьней, в крестьянстве. Да аще вся та похотения деяти будеть без времене и без меры, то грех будет в души, а недуг в телеси».[300] Далее автор приравнивает «безмерное» житие языческому поведению – «жертву приносят бесом, и недугы лечат чарами и наузы; немощнаго беса, глаголемаго Трясцю, прогонять некыми письмены лживыми (подобные “письмены” с заговором от Трясовицы-лихорадки были найдены в новгородской берестяной грамоте. – Л. Ч.); проклятых бесов елиньскых, пищюще на яблоцех и покладають на святей трапезе…» [400].
Неумеренное пьянство называлось также среди грехов духовенства наравне с ростовщичеством, участием в народных игрищах и тому подобным «пригвожденьем свету сему».[301] Яркий образ пагубной страсти – пьянства – создал в своем поучении епископ Белгородский Григорий в первой половине XIII в. Он сравнил его с пожаром, охватывающим тело человека и сжигающим его душу без остатка. Он утверждал, что пьяницы лишены души: «…где бо дух во пьяницах? Дым прогонит пчелы, а пьянство всятого духа прогонить, пьяница все плоть есть и все страстех испонен; пьяница ничто же блага не помышляеть».[302] Призывая покаяться и спасать душу от пьянства, влекущего за собой все мыслимые и немыслимые грехи, автор поучения восклицает: «Окамени бо душу вашу сатана!» [404]. Подобных поучений против пьянства было много и в последующие века русской истории, но в домонгольской Руси они отличались особой эмоциональностью и образностью.
Доминирование тела над душой наглядно проявлялось и в одежде. Христиане должны были одеваться, причесываться и вести себя, как уже говорилось, по «чину». Чин означал и социальный статус человека, и нормировал его внешнее и внутреннее соответствие данному статусу. Каждому христианину внушалась мысль из «Шестоднева»: «Колико зло есть еже свой чин комуждо преступати и уставныя пределы без боязни миновати».[303] Народное сознание хорошо усвоило, что борода на лице мужчины – это чин мужского естества, поелику он создан по образу и подобию Божию. Женщинам борода не положена как подвластным низшим существам, лишенным сего благолепия. Чин же предписывал девушкам заплетать волосы в одну косу и ходить с непокрытой головой, а замужним женщинам расплетать ее на две косы или скручивать волосы под шапкой и платком и ни в коем случае не «светить волосами». Чин предписывал женщинам вести затворническую жизнь, не выходить из терема, не присутствовать на пирах мужа (жена подносила гостям чарку водки, принимала от каждого гостевой поцелуй и уходила на женскую половину дома). Но в то же время по новгородским берестяным грамотам известно, что русские женщины были грамотны, умели читать и писать, вели активный образ жизни, занимались торговлей, выполняли различные хозяйственные и денежные операции, другие поручения мужей, управляли домашним хозяйством и многочисленными слугами и т. п.[304] Известно также, что русские девушки активно общались с молодыми людьми в церквах во время службы, против чего неоднократно выступали церковные иерархи в своих поучениях.