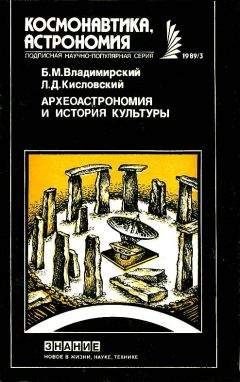Борис Владимирский - Венок сюжетов
И вот от этого театра теней, театра масок, театра скорее страшного, чем смешного, мы снова вернемся с вами к театру как искусству. И снова к Московскому Художественному театру. Ибо здесь возникает у нас на глазах еще одна форма пародии – пародийный роман. Это «Театральный роман» Михаила Булгакова.
Напомню, что Михаил Афанасьевич, оказавшись во МХАТе впервые в 1925 – начале 1926 года, прожил вместе с этим театром десять лет, работал в нем режиссером-консультантом, выходил как актер на его сцену. Многие его пьесы репетировались или ставились на этой сцене. Его с этим театром связывала взаимная и очень нежная любовь. В то же время многое в жизни МХАТа – отчасти то, что еще Дорошевич подметил, – Булгакова веселило, расстраивало, вызывало неприятие. Не только в спектаклях, но и в театральном укладе, замкнутом, чрезвычайно ортодоксальном. Как разговаривают на наречии системы Станиславского, как обожествляют своих мастеров артисты, как театр разделен на две половины, две партии; одна – Немировича, другая – Станиславского…
И вот в «Театральном романе» он пародирует все эти обстоятельства, пародирует и репетицию, которую проводит Станиславский (Иван Васильевич), – тот не столько репетирует пьесу Максудова, сколько отрабатывает элементы своей системы, заставляя актеров по ходу действия выполнять огромное количество этюдов: ездить на велосипеде, носить цветы – словом, делать то, что к пьесе не имеет никакого отношения.
С именем Булгакова связана и другая театральная пародия: полнометражное пародийное драматургическое произведение, предназначенное для настоящего театра, а не для театрика миниатюр.
В 1928 году Булгаков был чрезвычайно затравлен рапповской критикой, особенно после неудачи с постановкой «Бега», после того, как была отвергнута «Зойкина квартира», после того, как страшно были обруганы «Дни Турбиных», поставленные в Художественном театре. Рапповская критика от Булгакова требовала написания «коммунистической пьесы», то есть скороспелой агитки.
И тогда Булгаков написал памфлет под названием «Багровый остров». Его поставил Александр Яковлевич Таиров в Камерном театре, и это была пародия на тогдашние отношения власти и искусства и на псевдореволюционную халтуру, какая в то время насаждалась деятелями Главреперткома, среди которых у Булгакова было множество врагов.
«Багровый остров» написан в форме генеральной репетиции в маленьком провинциальном театрике. Репетируется революционная пьеса. Автор – Жюль Верн. Это, разумеется, псевдоним драмодела, для хлеба и денег написавшего эту халтуру, настоящая фамилия которого Дымогацкий. Дымогацкий Василий Артурович. Восьмой год революции требовал «передовых» пьес, и чуткий Дымогацкий отреагировал. И вот в театре, где последней «передовой» постановкой было «Горе от ума (актеры так и сыплют репликами оттуда), наконец репетируется и разыгрывается новая пьеса.
Действие происходит на острове, где живут туземцы. Управляет ими диктатор Сизи-Бузи, опирающийся на свою гвардию и проходимца Кири-Куки. Он добываемый в поте лица туземцами жемчуг меняет у европейцев на водку и бумажные деньги. Происходит извержение вулкана, Сизи-Бузи гибнет, и на острове воцаряется демагог и проходимец Кири-Куки, на псевдорусском наречии обращающийся к толпе туземцев: «Как стали вы таперича свободные, объявляю вам – спасибо!» Но туземцы против него бунтуют. Кири-Куки бежит в Англию и вместе с лордом Гленарваном и капитаном Гаттерасом организует иностранную интервенцию против туземцев. И поскольку у туземцев, как описано в ремарке этой пьесы, «честные открытые физиономии и идеологические глаза», то туземцы прогоняют интервентов и побеждают их. Корабль, испугавшись отравленных стрел, пущенных с острова, удаляется.
Но это только середина спектакля. Он обрамлен большими прологом и эпилогом, где показано закулисье. И здесь двойная пародия: с одной стороны, на шаблонные, но якобы идеологически выдержанные пьесы, а с другой стороны – на делячество и приспособленчество тех, кто исповедует формулу из пьесы Маяковского: «Лучше умереть под красным знаменем, чем под забором».
Ждут начальника из Главреперткома, от которого зависит, разрешить или не разрешить этот спектакль. Причем режиссер и хозяин театра (театр частный – времена нэповские) Геннадий Панфилович по телефону умоляет влиятельного чиновника Савву Лукича прийти сегодня же.
…Савва Лукич? Здравствуйте, Савва Лукич. Как здоровьице? Слышал, слышал. Починка организма? Переутомились. Хе-хе. Вам надо отдохнуть. Ваш организм нам нужен… <…> Так вот, Савва Лукич, необходимо разре-шеньице. Чего-с? Или запрещеньице? Хи! Остроумны, как всегда. Что? До осени? Савва Лукич, не губите! Умоляю просмотреть сегодня же на генеральной…
И все волнуются в театре: волнуется автор, волнуется режиссер, волнуется суфлер по имени Ликуй Исаич, волнуются актеры. И наконец, в конце третьего акта, – приехали Савва Лукич! Савва Лукич в вестибюле снимают калоши!
Савва Лукич появляется – надутый, важный, чванства преисполненный. Для него ищут лучшее место в зале! Его нельзя посадить в зале! Только на сцене! А самое лучшее место на сцене – трон Сизи-Бузи. Савва Лукич усаживается, сцена мгновенно заливается неестественно красным светом, и четвертый акт Савва Лукич смотрит с этого трона. Он глубокомыслен и хмур.
Когда кончилось – все взоры обращены к нему. Савва молчит некоторое время, а потом весомо изрекает: «Пьеса запрещается». Директор театра в отчаянье:
– Как вы сказали, Савва Лукич? Мне кажется, я ослышался?
– Нет, не ослышались. Запрещается к представлению.
– Савва Лукич, может, вы выскажете ваши соображения?… Чайку, кстати, не прикажете ли стаканчик?
– Чайку выпью… мерси… а пьеска не пойдет… Хе…хе…
И тут взрывается автор. Маленький человечек, презираемый, действительно халтурщик. Но в булгаковских произведениях часто просыпается человеческое в самых загнанных и самых,казалось бы, ничтожных людях. Вдруг – бунт! Бунт на коленях! Он говорит какие-то сумбурные слова о необходимости жить, о необходимости кормиться, о том, что Савва ничего не понимает, что он сам, Василий Артурыч, не знает, о чем ему надо писать, но и критики его тоже устарели. «А судьи кто? – хватается он за „Горе от ума“. – Сужденья черпают из забытых газет времен колчаковских и покоренья Крыма!» Но Савва Лукич оттесняет автора. Ему говорят: «Не обращайте внимания, Савва Лукич… Он на польском фронте контужен в голову… Не обращайте внимания».
И все спрашивают: «Скажите, в чем дело? Почему запрещается? Надо ж исправить!» И, наконец, Савва Лукич сдается, говорит, что пьеса сменовеховская. Все дело в финале. В финале должна быть… сами знаете что. «Что?» – спрашивает директор, не понимая. «Ну как… ну… ну!.. Тепло… Тепло…» Но режиссер не догадывается, пока ему Савва Лукич не говорит: «Международная революция».
И директор кричит помрежу: «Метелкин! Если ты устроишь международную революцию через пять минут, понял?… Я тебя озолочу!..» И Метелкин вместе с автором устраивает международную революцию, мгновенно придумывая другой финал: на корабле капитана Гаттераса бунтуют матросы, лорда и его жену сбрасывают в море и передают свой пролетарский привет красным туземцам.
Вот вывод наш логический —
Не важно – эдак или так…
Финалом победным!!!
Идеологическим!!!
Мы венчаем наш спектакль!!!
Тогда Савва Лукич разрешает спектакль. Взрыв восторга. И Савва Лукич благосклонно обращается, уходя, к драматургу:
Ну, спасибо вам, молодой человек. Утешили… утешили, прямо скажу. И за кораблик спасибо… Далеко пойдете, молодой человек! Далеко… Я вам предсказываю…
Директор. Страшнейший талант, я же вам говорил.
Савва. В других городах-то я все-таки вашу пьеску запрещу… – нельзя все-таки… пьеска – и вдруг всюду разрешена! Курьезно как-то…
И на этом заканчивается пьеса. Финал имеет много общего с судьбой самого Булгакова, поскольку «Бег» запретил. Главрепертком вовсе, а «Дни Турбиных» были разрешены одному МХАТу, а в других городах запрещены.
Таиров, который поставил этот спектакль, писал тогда: «Савва Лукич, уродливо, бюрократически восприняв важные общественные функции, плодит уродливые штампы псевдореволюционных пьес, способных лишь осквернить дело революции и сыграть обратную, антиобщественную роль, заменяя подлинный пафос и силу революционной природы мещанским сладковатым сиропом беспомощного и штампованного суррогата».
Сказано в духе времени, очень много громких, трескучих слов, но суть понятна: Булгаков здесь выступает не против революционного искусства, а против искусства псевдореволюционного, против халтуры, которой тогда было огромное множество.
И рядом с Булгаковым, вот что характерно, мы видим очень похожие драматургические пародии, созданные писателями, стоявшими на другом полюсе литературной борьбы: Вишневским в пьесе «Последний решительный», где он пародирует сладенькое изображение советских моряков в балете «Красный мак» в Большом театре, и Маяковским в пьесе «Баня».