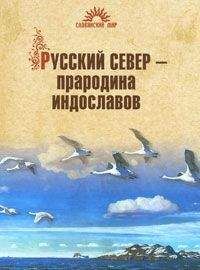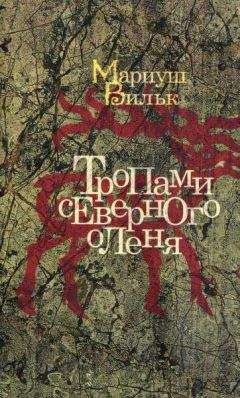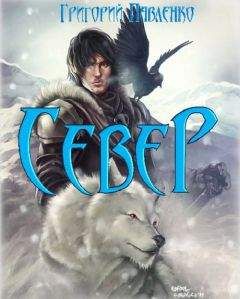Питер Брук - Пустое Пространство
Когда я пишу эти строки, я еще не представляю себе, каким путем произойдет обновление театра: реально ли это только в скромных пределах, маленькой общины или это возможно в масштабе большого театра в столичном городе. Удастся ли нам достичь тех же результатов, исходя из требований, продиктованных современной жизнью, каких достигли театры Глиндеп-бурна и Банрепта в совершенно иных условиях, с позиции других идеалов? Иначе говоря, удастся ли нам тоже сформировать взгляды публики еще до того, как она переступит порог нашего театра?
Театры Глинденбурна и Байрейта существовали в согласии с обществом, с классами, которым они угождали. Сегодня трудно себе представить, чтобы живой и нужный театр не конфликтовал с обществом, а воспевал узаконенные ценности. И в то же время художник существует не для того, чтобы предъявлять обвинения, читать мораль, произносить речи, н меньше всего для того, чтобы поучать. Ведь он один из «них». Он действительно бросает вызов аудитории тогда, когда она готова бросить вызов самой себе. Он искрение радуется вместе со зрителями, становясь их рупором, когда у них есть основания для радости.
Если бы новые явления возникали прямо на глазах у публики и, если бы публика была готова к восприятию их, сцена и зрительный зал неизбежно столкнулись бы друг с другом. Случись это, капризное общественное мышление сосредоточилось бы вокруг наиболее важных мотивов жизни: некоторые серьезные задачи были заново продуманы, пересмотрены и переоценены. В этом случае разница между позитивным и негативным отношением, между оптимизмом и пессимизмом потеряла бы смысл.
В мире, где все так изменчиво и подвижно, поиск сам по себе автоматически становится поиском формы. Разрушение старых форм, экспериментирование с новыми, новые слова, новые отношения, новые пространства, новые здании — все это имеет отношение к одному и тому же процессу, и любая отдельная постановка — это не что иное, как одиночный выстрел в невидимую цель. Глупо сегодня ожидать, что некий спектакль сам по себе, стиль или направление в работе приведут пас к тому, чего мы ищем. Театр не может развиваться только по прямой в мире, который движется не только вперед, но также в сторону и назад.
Вот почему уже долгое время не существует единого стиля для театров мира, как это было в XIX веке.
Однако не все сводится только к движению, только к разрушению, только к моде.
Существует и нечто незыблемо прочное. Возникают где-то спектакли массовой игры, рождается театр активно действующего зрителя» доказывающий нелепость искусственного деления на Неживой, Грубый и Священный. В этих редких случаях театр радости, катарсиса, празднества, театр эксперимента, театр единомыслия, живой театр — едины. Но вот спектакль окончен, прошло время, и нельзя восстановить его рабским подражанием — мертвое вползает заново, опять начинается поиск.
Каждое указание к действию высвобождает скрытую в нем инерцию. Возьмите священнейшее из искусств — музыку. Музыка — то единственное, что многих примиряет с жизнью. Многочасовое прослушивание музыки напоминает людям, что жить стоит, но в то же время притупляет чувство неудовлетворенности и тем самым подготавливает человека к принятию невыносимых сторон жизни, Или, к примеру, ошеломляющие рассказы о зверствах, фотографии пораженного напалмом ребенка — это самые жестокие проявления реальности, но они открывают зрителям глаза необходимость действовать, которая в итоге несколько притупляется. Это происходит так, словно ощущение такой потребности одновременно и усиливается и ослабляется. Что можно сделать?
В театре существует одно серьезное испытание. Когда представление окончено, что остается? Об удовольствии забывают, больше того — даже сильные ощущения исчезают. А все рассуждения теряют нить. Но когда ощущения и доводы используются для того, чтоб [л публика могла вглядеться в самое себя, тогда в сознании что-то воспламеняется. Событие опаляет память, оставляя в ней очертание, вкус, след, запах — картину. Остается центральный образ пьесы, ее силуэт, и, если вес элементы правильно сочетаются, этот силуэт и будет ее значенном, эта форма станет сутью того, что она должна выразить. Когда спустя ГОДЬЕ я думаю о самых сильных театральных впечатлениях, я нахожу отпечатавшимися в памяти: двух бродяг, сидящих под деревом, старую женщину, тяну щук» тележку, танцующего сержанта, трех людей на диване в аду — или иногда след, оказавшийся более глубоким, чем сам образ. У меня нет надежды точно воспроизвести смысл, но такой след дает возможность восстановить цепь значений. Несколько часов смогли изменить мое отношение к жизни. Этого достичь трудно, но к этому следует стремиться.
Сам актер едва ли остается в шрамах от сильного напряжения. Любой актер после того, как он сыграл страшную, приводящую в трепет роль, одновременно и расслаблен и счастлив.
Такое чувство, что человеку, несущему большую физическую нагрузку, полезно пропустить через себя сильные ощущения. Я убежден, что мужчине полезно быть дирижером оркестра, полезно быть трагиком. Как правило, они доживают до очень преклонного возраста. Но я понимаю также, что за это приходится расплачиваться. Материал, которым пользуешься, чтобы создавать этих воображаемых людей (после спектакля их сбрасываешь с себя так же легко, как с руки перчатку), — твоя собственная плоть и кровь. Актер все время растрачивает самого себя. Пользуясь будто бы своей эрудицией, будто бы своим интеллектом, он создает образы, которые перестают существовать, когда представление окончено. Возникает вопрос: удастся ли нам помешать публике испытать нечто подобное?
Сохранят ли зрители ощущение катарсиса или же радостное сознание собствен него благополучия — тот предел, который им доступен? Здесь тоже возникает множество противоречии. Воздействие театра — в освобождении. Как смех, так и сильные переживания очищают организм, и в этом смысле они противоположны тому, что оставляет в памяти след, ибо всякое очищение связано с обновлением. И все же: так ли уж отличаются друг от друга воздействия, которые освобождают, и воздействия, в результате которых что-то остается? Не наивно ли полагать, что почти противостоят друг другу? Не правильнее ли будет сказать, что в процессе обновления все может повториться вновь?
Есть много розовощеких стариков и старух. Это те, у которых сохранилась удивительная энергия, но это большие дети: без морщинки па лице, веселые, радостные, так и не повзрослевшие. Есть и другие — не ворчливые и не дряхлые, но морщинистые, много испытавшие и тем не менее сияющие, обновленные. Даже молодость и старость могут накладываться друг на друга. Вопрос для старого актера состоит в том, удастся ли ему в искусстве, которое так его обновляет, открыть для себя новые возможности? Для публики, счастливой и обновленной радостным вечером, проведенным в театре, вопрос заключается в том же самом.
Каковы дальнейшие возможности? Мы знаем, что может произойти быстротечное освобождение. Может ли что-нибудь остаться?
Здесь вопрос снова упирается в зрителя. Захочет ли он изменения окружающих его условии?
Захочет ли он чего-то иного в себе самом, в своей жизни, в жизни общества? Если нет, тогда ему не нужно, чтобы театр стал для него испытанием, чтобы он был увеличительным стеклом, прожектором или местом встречи.
С другой стороны, ему может понадобиться или что-то одно, или все сразу. В таком случае ему не только необходим сам театр — ему необходимо все, что он сможет в нем получить.
Таким образом, мы подходим к формуле, к уравнению, которое звучит так: театр — ППС.
Для того чтобы расшифровать эти буквы, нам придется воспользоваться неожиданным источником. Во французском языке нет адекватных слов для перевода Шекспира. Но зато, как это ни странно, именно в этом языке мы находим три ежедневно употребляемых слова, в которых заключены проблемы и возможности театра.
Повторение, представление, соучастие. Слова имеют тот же смысл, что и английские, Но французское repetition еще отражает и механическую сторону процесса в отличие от английского rehearsal. Неделя за педелей, день за днем, час за часом практика приводит к совершенству. Это поденщина, зубрежка, дисциплина—скучное занятие, дающее хорошие результаты. Каждому спортсмену известно, что тренировка в конце концов вносит свои поправки. Повторение — творческий процесс, бывают эстрадные певцы, репетирующие песню по году и даже больше перед тем, как исполнить ее на публике. После этого они будут исполнять ее еще лет пятьдесят. Лоуремс Оливье сам репетирует диалог до тех пор, пока не доведет мускулы языка до состояния безукоснительного подчинения, — так он обретает полную свободу. Для клоуна, акробата, танцора совершенно очевидно, что только с помощью повторений можно отработать определенные движения, и каждый, кто отрицает повторение, знает, что некоторые средства выражения для него автоматически закрыты. В то же время повторение — слово без ореола. Это понятие без тепла. Непосредственная ассоциация от него всегда беспощадна. Повторение — это уроки музыки, которые нам запомнились с детства, это проигрывание гамм. Повторение — это путешествующая музыкальная труппа, играющая уже автоматически с пятнадцатым составом, действия потеряли смысл и аромат. Повторение — это то, что при водит к бессмыслице: спектакль, идущий слишком долго и выматывающим душу, ввод дублеров, — словом, все то, чего боятся восприимчивые актеры. Эта имитация под копирку безжизненна. Повторение отрицает живое. Это так, словно уже в самом слове заключено основное противоречие театра. Чтобы событие на сцене развивалось, ого необходимо заранее подготовить, а процесс подготовки часто включает в себя повторение одного и того же. Будучи завершенным, он нуждается в том, чтобы его просмотрели. Затем оно может повлечь за собой законное требование быть повторенным снова и снова. В таком повторении — семена будущего загнивания.