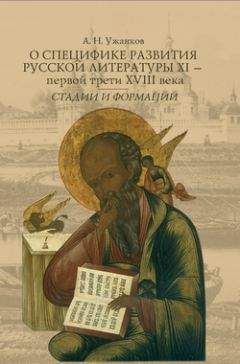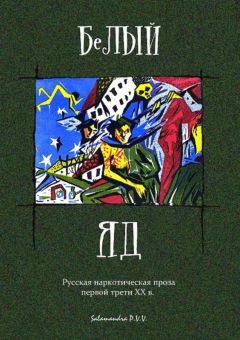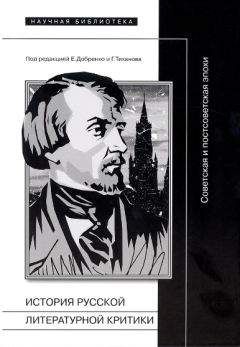Марина Хатямова - Формы литературной саморефлексии в русской прозе первой трети XX века
Движение от автодиалога (напоминающего, по мнению Н. Р. Скалона, средневековый солилоквиум[370]) к диалогу с «провиденциальным собеседником» (О. Мандельштам) принципиально в романе героя. Установка на воспринимающее сознание вписывает произведение Замятина в диалогическое поле творчества акмеистов, для которых читатель – не только «новый контекст», в который помещается авторский текст» (Л. Г. Кихней), но и соавтор. Сам Замятин неоднократно высказывался о произведении как сотворчестве автора и читателя.[371] Исследователями отмечалось, что в романе Замятина все: от образа и наполнения Древнего Дома – до цитатной неомифологической структуры романа, – выражает «тоску по мировой культуре».[372] Можно вскрыть и собственно акмеистский аллюзивный план романа.[373] Форма романа, одновременно репродуцирующая диалогическую[374] и неомифологическую структуры,[375] сообщает произведению Замятина черты неотрадиционалистского (В. И. Тюпа) произведения,[376] отождествление Д-503 с Адамом (предпринимаемое поэтом R-13), и мотив детскости соотносятся с «семантическим первооткрывательством» акмеистов.[377]
Осознание долга перед душевно и духовно близким читателем совпадает у героя с осознанием отцовского долга. Д-503 чувствует глубокую любовь-жалость и личную ответственность за О-90 и их будущего ребенка: «Это совершенно другое, чем к I, и мне сейчас представляется: нечто подобное могло быть у древних по отношению к их частным детям (…) Нелепое чувство – но я в самом деле уверен: да, должен. Нелепое – потому что этот мой долг – еще одно преступление» [С. 338–339]. Для героя рождение творческого продукта и рождение своего ребенка – односущностные переживания[378] и равновеликие преступления перед Единым Государством. Еще в начале своего письма Д-503 уподобляет творческое горение рождению ребенка: «Я пишу это и чувствую: у меня горят щеки. Вероятно, это похоже на то, что испытывает женщина, когда впервые услышит в себе пульс нового – еще крошечного, слепого человечка. Это я и одновременно – не я. И долгие месяцы надо будет питать его своим соком, своей кровью, а потом – с болью оторвать от себя и положить к ногам Единого Государства…» [С. 212]. Позднее деторождение и творчество объединятся в его сознании «метафизической субстанцией оскорбления Единого Государства» – человеком [С. 295]: «С этой вершины (сегодняшнего дня Единого Государства. – М. X.) одинаковы: и противозаконная мать – О, и убийца, и тот безумец, дерзнувший бросить стихом в Единое Государство. » [С. 289]. Для Д дерзнувшая родить своего ребенка О-90 и поэт R-13 неразрывно связаны, и не только «семейными отношениями»: «Милая О… МилыйR… В нем есть тоже (не знаю, почему «тоже» – но пусть пишется, как пишется) – в нем есть тоже что-то, не совсем мне ясное» [С. 240]. Не менее важны в этой связи размышления героя о матери, органически рожденным «куском» которой он хотел бы быть: «Если бы у меня была мать – как у древних: моя – вот именно – мать. И чтобы для нее – я не Строитель «Интеграла», и не нумер Д-503, и не молекула Единого Государства, а простой человеческий кусок – кусок ее же самой – истоптанный, раздавленный, выброшенный. » [С. 356–357].
С. Пискунова писала: «Свет в конце подземного хода, по которому продирается Д-503, связан с темой письма (его истинное свободное «я» находит пристанище именно в его «записках», в акте письма – самопознания) и с пересекающейся с темой письма темой материнства. С судьбой ребенка Д, унесенного О за стену. С судьбой слова, с судьбой рукописи Д (его ребенка!), изначально предназначенной в жертву Молоху – Единому Государству: уже утратив сознание, Д находит в себе подсознательные силы дописать рукопись, переадресовав ее "неведомому, любимому читателю". И он не ставит в ней точку, не сбрасывает ее в яму для мертвецов. Хотя и не ставит над ней креста».[379] Темы рождения и творчества не просто пересекаются в художественном мире Замятина, они тождественны: творчество, укорененное в культуре, есть рождение органического целого.
На представление Замятина о творчестве как «органическом единстве» несомненно повлияли идеи Н. О. Лосского.[380] Но если для Лосского (как и для П. Флоренского, с отдельными идеями философии которого Замятин осознавал свою близость[381]) «органическое мировоззрение» есть безусловное доказательство бытия Бога, то Замятин, используя выражение самого философа, остается носителем «отвлеченного логоса»: в его мире Бог отсутствует. В «Записных книжках» Замятина за 1921 год знаменательно не только упоминание системы Лосского в качестве философской основы нового искусства, но и «метафизическая описка»: вместо «идеал-реализма» (как определяет свое мировидение философ) появляется просто «реализм»: «Возврат философии к реализму. Лосский – философия неореалистов в англосаксонских странах. И соответственное течение неореализма в литературе».[382] Эклектично соединяя в своем романе противоположные по сути идеи «органического единства» и относительности всех истин,[383] Замятин оказывается в «мировоззренческих ножницах» «жажды логоцентризма» (Н. Р. Скалон) и «неорганических» (в оценке Лосского) экзистенциалистских идей, чем повторяет путь многих своих современников. «Органическая поэтика» Замятина имеет мифологический генезис. Два конститутивных свойства мифо-поэтического произведения – метафоризм и телесность – являются неотъемлемыми качествами прозы Замятина, существующей по закону единого текста с единой «кровеносной системой» тем, мотивов, сюжетных схем, образов.
Роман героя «достраивает» и уточняет модернистский миф автора о поиске истинного Слова в эпоху тотальных разрушений. Это слово диалогическое, обращенное к Другому, несущее в себе органическую семантику природно-культурной целостности и направленное на сохранение культурной памяти. Долг художника оказывается выше человеческого долга: Д-503, потерявший свою личность, бессознательно стремится завершить рукопись. «Перебирая» вместе со своим героем разные типы творческого поведения, Замятин останавливается на возвращающем эстетическое откровение контравангардном искусстве.
3.2 «Бич Божий»: логика повествования и концепция истории Е. И. Замятина
Реконструкция исторических представлений Е. И. Замятина осложнена для исследователя тем обстоятельством, что два важнейших произведения писателя, в которых историческое прошлое становится объектом исследования, не дошли до читателя в завершенном виде: драма «Атилла» (1927) претерпела серьезные цензурные вмешательства, роман «Бич Божий» (1928–1937) – это лишь часть незавершенного исторического повествования «Скифы». Однако проблема замятинского историзма остается одной из основных для исследователей, ведь над дилогией об Аттиле писатель работал почти половину своего тридцатилетнего творческого пути, а роман «Бич Божий» явился его итогом. Роман «Бич Божий» обойден вниманием ученых, тогда как о драме есть содержательные работы Р. Гольдта, И. Е. Ерыкаловой, Т. Т. Давыдовой, Н. Н. Комлик, Е. А. Лядовой.[384]
В замятиноведении доминирует представление о компилятивном характере замятинской концепции истории, в которой современные сциентистские теории (второе начало термодинамики Р. Майера, или тепловой смерти вселенной, концепция «энергетического монизма» В. Оствальда, распространившего теорию Майера на явления психической и духовной жизни, хаологические концепции ХХ века и, конечно, теория относительности) оказываются «поддержаны» популярными историософскими циклическими концепциями Ф. Ницше, Н. Я. Данилевского, О. Шпенглера, А. Блока и других символистов (А. Белого и В. Брюсова). Широкая популярность и даже банальность как философских, так и научных источников (явившихся реакцией на глобальное эпистемологическое разочарование как в провиденциальной христианской, гегелевской модели истории, так и в линейных прогрессистских научных и социальных концепциях, в том числе и марксистской, ставшей официальной государственной идеологией) не только свидетельствуют об интеллектуальной мобильности Замятина, но и ставят под сомнение оригинальность его концепции истории. Уместно вспомнить и раздраженную реплику Горького в адрес Замятина по поводу вторичности всех его идей, и дискуссию в западной науке о самобытности Замятина.[385]
На наш взгляд, Замятин творит свой миф о цикличности истории, а конкретные культурно-исторические и научные теории становятся лишь «строительным материалом», меняющимися языками описания этого мифа. На оригинальность этой концепции указывает переосмысление Замятиным существующих идей и наполнение расхожих культурно-исторических категорий (природа, стихия, восточное / западное и т. д.) собственным, авторским смыслом и материалом. Важно подчеркнуть, что циклическая концепция истории органично вытекает из мифопоэтических представлений художника, а не усвоена им у Ницше и Шпенглера. Творчество Замятина, несмотря на изменения эстетики и поэтики на разных его этапах, воспринимается как целостное, создающее метатекст, мифологическую, циклическую картину мира; меняется наполнение мифа, но не способ мышления автора.