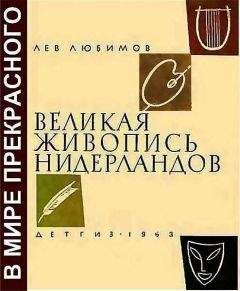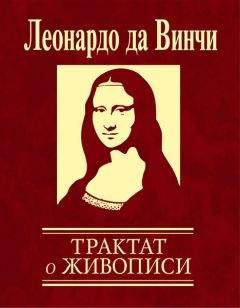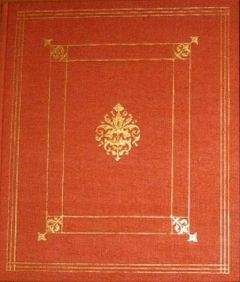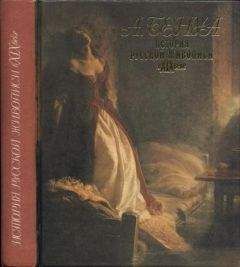Алексей Чагин - Пути и лица. О русской литературе XX века
При жизни Б.Поплавского вышла лишь одна его поэтическая книга — «Флаги» (1931). Остальные — «Снежный час» (1936), «В венке из воска» (1938), «Дирижабль неизвестного направления» (1965) появились уже после его трагической гибели в 1935 году. Стихотворения Б.Поплавского (как и все, что им было написано) остались одним из свидетельств того духовного кризиса, духовного поиска, который во многом определил смысл и содержание и его земного пути, и пути поэтической молодежи ею поколения. Этим, прежде всего, они значительны и интересны для нас сегодня. И, конечно, стихотворения эти ясно говорят о том, что перед нами уже другой Поплавский. Детские опыты остались позади, в эмиграции Поплавский рано заявил о себе как зрелый поэт. Уже в первой книге стихов «Флаги», вышедшей в 1931 году, многие увидели рождение нового — своеобразного и трагического — художественного мира. Теперь, когда все или почти все поэтическое наследие Б.Поплавского опубликовано, особенно наглядно видно, насколько внутренне целостен этот художественный мир — при всей его изменчивости, фантасмагоричности при всей зыбкости границ, отделяющих (здесь скорее подошло бы слово — «соединяющих») поэтическое творчество Поплавского от его прозы, критики, дневников.
Прочитаем внимательно стихотворение Поплавского «Возвращение в ад», опубликованное в книге «Дирижабль неизвестного направления». Отсюда, из этого стихотворения, мы увидим ясно не только огромность и бесповоротность пути, пройденного поэтом от Харькова до Парижа, но и саму направленность этого пути. Отсюда мы сможем увидеть многое в поэзии Поплавского, и, быть может, лучше понять как многообразие путей, которыми шла поэзия русского зарубежья в 1920-1930-е годы, так и характер ее взаимодействия с поэзией, развивавшейся в те же годы в России.
Возвращение в ад
(Лотреамону)
Еще валился беззащитный дождь,
Как падает убитый из окна.
Со мной шла радость, вод воздушных дочь,
Меня пыталась обогнать она.
Мы пересекли город, площадь, мост,
И вот вдали стеклянный дом несчастья.
Ее ловлю я за цветистый хвост
И говорю: давайте, друг, прощаться.
Я подхожу к хрустальному подъезду,
Мне открывает ангел с галуном,
Дает отчет с дня моего отъезда.
Поспешно слуги прибирают дом.
Встряхают эльфы в воздухе гардины,
Толкутся саламандры у печей,
В прозрачной ванной плещутся ундины,
И гномы в погреб лезут без ключей.
А вот и вечер, приезжают гости.
У всех мужчин под фалдами хвосты.
Как мягко блещут черепа и кости!
У женщин рыбьей чешуи пласты.
Кошачьи, птичьи пожимаю лапы,
На нежный отвечаю писк и рев.
Со мной беседует продолговатый гроб
И виселица с ртом открытым трапа.
Любезничают в смокингах кинжалы,
Танцуют яды, к женщинам склонясь.
Болезни странствуют из залы в залу,
А вот и алкоголь — светлейший князь.
Он старый друг и завсегдатай дома.
Жена-душа, быть может, с ним близка.
Вот кокаин: зрачки — два пузырька.
Весь ад в гостиной у меня, как дома.
Что ж, подавайте музыкантам знак,
Пусть кубистические запоют гитары,
И саксофон, как хобот у слона,
За галстук схватит молодых и старых.
Пусть барабан трещит, как телефон:
Подходит каждый, слышит смерти пищик.
Но медленно спускается плафон
И глухо стены движутся жилища.
Все уже зал, все гуще смех и смрад,
Похожи двери на глазные щели.
Зажатый, в них кричит какой-то франт,
Как девушка под чертом на постели.
Стеклянный дом, раздавленный клешней
Кромешной радости, чернильной брызжет кровью.
Трещит стекло в безмолвии ночном
И Вий невольно опускает брови.
И красный зрак пылает дочки вод,
Как месяц над железной катастрофой,
А я, держась от смеха за живот,
Ей на ухо нашептываю строфы.
(1925)
Нет нужды доказывать, что здесь уже ничего не осталось от Поплавского – автора «Герберту Уэльсу» с его гиперболизмом, богоборческой образностью и «маяковскими» интонациями. Перед нами – предельно развернутая сюрреалистическая картина, заключенная в традиционные размеры и поражающая трагизмом, символической глубиной и «многослойностью» образов.
Вспоминая «Звезды» В. Ходасевича или стихотворения Г. Иванова, мы замечаем, конечно, что здесь, у Поплавского, совершенно иной тип поэзии, иной даже в смысле «техники» – ритмики, лексики, стилистики стиха. Если, скажем, у Ходасевича малейший поворот поэтической мысли сопровождается мгновенными ритмическими, стилистическими перепадами, «колебаниями», если все уровни создаваемого поэтического мира, от духовных глубин и до «поверхности» стиха, неразрывно связаны друг с другом, отзываются друг в друге, – то в стихотворении Поплавского поэтическая картина мира создается по иным законам.
Ясно, например, что ритмика и стилистика стихотворения и здесь связаны с этапами движения и развития поэтической картины. Наиболее «нейтральна» ритмика первой строфы, где все строки ограничены равным количеством стоп. Вся середина стихотворения (3-8 строфы), где идет описание «стеклянного дома» — ада, а затем приехавших «гостей», выдержана в спокойном «повествовательном» ритме — по количеству стоп в строках эти строфы представляют собой «классическое» чередование: 4— 3— 4— 3. Там же, где драматизм поэтического «сюжета» несколько усиливается — во второй и в последних пяти строфах — это подчеркивается сменой ритма: 3 — 4 — 3 — 4.
И все же во всех вариантах, при всех своих поворотах и колебаниях ритм стихотворения от начала его и до конца вполне нейтрален, размер стиха традиционен. Это, заметим, вполне типично для Поплавского[191]. Обратим внимание — мы не найдем здесь тех судорожных, «рваных» ритмических перебивов, которые слышны в «Звездах» В.Ходасевича, в тех строфах, где воссоздается «постыдная лужа» низкой реальности, оказывающаяся пародией на звездный мир, на замысел Божий. Если в стихотворении Ходасевича ритм поэтической речи согласован с движением, развитием картины мира, то у Поплавского две эти стороны поэтического выражения противостоят друг другу, взаимодействуют друг с другом по принципу контраста. Спокойный, «повествовательный» ритм поэтической речи, традиционный размер стиха, контрастно взаимодействуя с движением поэтического «сюжета», лишь подчеркивают невероятность, фантасмагоричность развертывающегося в стихотворении сюрреалистического «действа».
То же мы видим, обратившись и к стилистике «Возвращения в ад». В основном поэтическая речь здесь стилистически однородна, она строится на сочетании литературного и разговорного стилей (с явным преобладанием литературного). Резко выделяется на этом фоне лишь стилистический «мазок» в образе «дочки вод» в последней строфе стихотворения – высокая архаика слова «зрак», напоминающая об отстраненности, внеположности этого образа по отношению ко всему, что происходит в «стеклянном доме». В остальном же лексика стихотворения стилистической своей нейтральностью оттеняет необычайный характер происходящего. Принцип контраста очевиден и здесь — достаточно взглянуть на то, как «любезничают в смокингах кинжалы», «танцуют яды» и т.п. Даже «ангел», «эльфы» и «ундины», пришедшие, казалось бы, из иного (традиционного, романтического) «арсенала» поэзии, здесь, в третьей и четвертой строфах, вторгаясь в откровенно бытовой контекст, создают впечатление обыденного волшебства.
Вчитываясь в стихотворение Поплавского, мы замечаем, что не в размере, ритме, лексике или стилистике заключено в первую очередь своеобразие создаваемой картины, что разгадку открывающегося здесь мира можно найти, лишь осознав «многослойность» смыслов составляющих его образов, их символическую и метафизическую глубину, их ассоциативную связь между собою, оборачивающуюся возникновением того или иного «сквозного» образа-мотива. Что же это за «стеклянный дом», куда приходит поэт и где развертывается действо, напоминающее ночные кошмары и движимое стихией сюрреалистического видения? Л.Флейшман объясняет значение этого образа цепочкой взаимосвязанных понятий, отправные из которых, по его мнению — «ад» — «дом поэта» [192]. В дальнейшем мы увидим, что стихотворение дает возможность для более объемного прочтения этого образа.
Обратим внимание на первую строфу — разгадка начинается уже здесь, в возникающем в первых же двух строках многозначительном образе «беззащитного дождя», который валился, «как падает убитый из окна». Помимо трагической окрашенности этого образа, он совершенно необычен, удивителен по самой смысловой своей структуре: дождь уподобляется здесь (через сравнение) падению «убитого из окна», т.е. речь идет о движении изнутри — наружу , что совершенно, конечно, необъяснимо, более того — противоестественно, если исходить из реалистической природы образа дождя.