Светлана Адоньева - СССР: Территория любви (сборник статей)
Закадровый текст сопровождает многие ранние «оттепельные» фильмы. Так, в «Чужой родне» авторский голос выступает как носитель «житейской мудрости» и как советчик главных героев[378]. В фильме «Тугой узел» текст от автора уже задает точку зрения и характеризует основных персонажей, давая им жесткие и нелицеприятные оценки. В некоторых фильмах комментарий дается от лица одного из персонажей (учительница в «Тучах над Борском») или представляет собой закадровый диалог, вводящий в круг проблем («В один прекрасный день», «Укротители велосипедов»). Практически во всех случаях закадровый голос призван расставить идеологические ориентиры и, по возможности, упразднить разночтения в трактовке сюжета и оценке действий персонажей, которые с неизбежностью возникали вследствие показа на экране неоднозначных «реальных» конфликтов (комментарий в «Русском сувенире»).
Сюжет. Репрезентация «реальности» в «оттепельном» кино в первую очередь связана с расширением сюжетного репертуара: ряд сложных житейских событий, как правило связанных с любовными драмами и приватной жизнью, которые ранее были исключены из сферы показа, появились на экране. Так, например, в сталинском кинематографе имело место табу на изображение беременности и рождения детей, — а в одном из первых «оттепельных» фильмов — швейцеровской «Чужой родне» — беременность героини Н. Мордюковой не только демонстрировалась, но и являлась сюжетообразующим элементом[379]. Но первоначально темы, ранее запрещенные, вводились как второстепенные линии внутри старых сюжетных схем. Характерными примерами могут служить одна из сюжетных линий фильма «Большая семья», показывающая брошенную женщину с ребенком[380], или появление в фильме «Высота» не невинной девушки — «бывалой» и независимой героини И. Макаровой.
Постепенно появлялись и обживались новые сюжеты, вводящие в поле зрения кинематографа «реальные» конфликты, т. е. сложные, подчас неразрешимые житейские ситуации, имеющие место в жизни, но исключавшиеся из сферы репрезентации «большого стиля». Так, появляются сюжеты, связанные с уходом мужчины из семьи и разводом («Испытание верности», «Судьба Марины»)[381]. В фильмах «Летят журавли», «Дом, в котором я живу», «Баллада о солдате» возникает сюжет о женской измене (в последних двух фильмах — это второстепенные линии), в картине «Дело было в Пенькове» — тема мужской неверности[382]. Кроме того, впервые анализируются проблемы разновозрастной любви, т. е. отношений между очень молодой девушкой и взрослым мужчиной («Чистое небо», «Девчата», «Повесть о первой любви», «Доживем до понедельника», «Городской романс»), любви вне брака («Девять дней одного года», «Еще раз про любовь», «Июльский дождь»), брака по расчету («Разные судьбы», «Медовый месяц», «Четыре страницы одной молодой жизни»). В новой ситуации даже традиционные для советского кино темы мещанства и накопительства вплетаются в сложный клубок любовных, семейных и этических проблем («Чужая родня», «Шумный день», «День счастья», «Берегись автомобиля»). Становится очень популярной не появлявшаяся ранее тема школьной любви («А если это любовь?», «Повесть о первой любви», «Дикая собака Динго», «Доживем до понедельника»). Этот же сюжет о первой любви лежит в основе практически единственного фильма о религиозном сектантстве — «Тучи над Борском». Появляются абсолютно невозможные ранее сюжеты о соблазнении («Сверстницы») и матерях-одиночках («Человек родился», «Большая семья»). На этих фильмах особенно заметна разница кинематографических парадигм: в сталинском кинематографе дети — лишь двигатель сюжета («Моя любовь», «Близнецы»): дети появляются у невинных девушек неожиданно (остается ребенок от умершей сестры, усыновляются двое потерянных малышей) и выполняют функцию проверки на прочность отношений влюбленных[383]; в период же «оттепели» тема матери-одиночки вырастает в сложную проблему выбора и становления личности.
Первоначально кинематограф был не готов к такой экспансии «реального»: в ранних «оттепельных» фильмах логика сюжета, явно тяготеющая к открытому (неразрешимому) финалу, нарушалась (разрушалась) за счет необходимости «хорошего конца», где добро торжествует, а противоречия разрешаются. Так, вопреки сюжетной логике, появляется счастливый финал в кинофильме «Чужая родня»: героиня (Н. Мордюкова) после тяжелейших и, зачастую, унизительных метаний между любимыми родителями и любимым мужем (Н. Рыбников) все-таки остается с «прогрессивным» мужем, а не с «отсталыми» родителями. Весьма искусственно выглядит если не счастливый, то хотя бы положительный финал в, по сути, трагическом фильме «Тучи над Борском»: юная героиня (И. Гулая), из-за сильной любви и полного непонимания окружающих попавшая в религиозную секту, чудом остается жива после распятия фанатиками. Исподволь начинают появляться фильмы о несложившейся любви («Простая история», «Три тополя на Плющихе», «Остров волчий», «Еще раз про любовь», «Долгая счастливая жизнь»). Два последних уже с откровенно драматичными финалами: в одном гибнет нежная и противоречивая героиня-стюардесса (Т. Доронина), во втором главный герой обнадеживает, а потом, испугавшись своего порыва, неожиданно и странно уходит от полюбившей его женщины (К. Лавров и И. Гулая). Но, возможно, самым трагичным можно считать финал «школьного» фильма «А если это любовь?»: история грубого вмешательства родителей и учителей в отношения двух влюбленных приводит не только к разрыву, но и к равнодушию, усталости и полному крушению иллюзий у совсем еще юной героини (Ж. Прохоренко). Так постепенно жанровая кодифицированность размывается за счет противоречивой логики характеров персонажей, выводимых на экране.
Персонажи. Не будет преувеличением сказать, что одним из важнейших факторов перелома, произошедшего в стилистике «оттепельного» кинематографа, является радикальное изменение манеры актерской игры, даже точнее, — способа существования актера в кадре. Не берусь утверждать, что было причиной, а что следствием таких перемен: изменение ли характера конфликта (его смещение к «реальности», «жизненности») повлекло за собой перемены в манере актерской игры (показ персонажей странных, неустойчивых, «незавершенных»), или именно изменение характера героя потребовало новой («реалистической») среды его кинематографического обитания[384]. Но факт остается фактом — именно в этот период происходит коренной перелом в способе существования актера на экране[385]. Это касается походки, жестикуляции, манеры говорить и одеваться: О. Булгакова отмечает, что походка становится более раскованной («фланерская» походка молодых[386] горожан), жестикуляция — менее сдержанной (маркер искренности героев), проявления чувств — более открытыми (герои появляются в обнимку на публике, открыто целуются, в жестах и танцах не скрывается эротизм)[387].
Смена кинематографической парадигмы (от комедии — к киноповести) влечет за собой размывание актерской типажности, а затем и появление актеров драматического, а не комедийного склада[388]. На смену «знаковости» и «образцовости» персонажей С. Столярова, Л. Орловой, М. Ладыниной приходит «обычность»[389] и «узнаваемость» героев Н. Рыбникова, М. Ульянова, А. Баталова, Г. Юматова, В. Шукшина, Н. Мордюковой, И. Макаровой[390]; либо, напротив, появляются принципиально необычные и противоречивые персонажи — Т. Самойловой, И. Гулая, Т. Дорониной.
На эту особенность обращает внимание современная кинокритика и в ней предлагает искать причину ошеломляющей новизны героини Т. Самойловой из фильма «Летят журавли». Как отмечает И. Изволова, самым необычным в этом образе оказалось «несовпадение характера героини с предложенным драматургией ходом событий»[391]. Она непохожа на завершенных, наделенных коллективным знанием героинь советского кино предшествующего периода. Как точно отмечает исследовательница, в Веронике «есть нечто странное, необычное, неустойчивое — в самой пластике героини, в ее осторожной походке, столь не похожей на земную и уверенную походку даже самых нежных и романтических героинь начала 50-х годов. В Веронике Самойловой нет ничего сложившегося, завершенного, <…> лицо Вероники находится в непрерывном движении. Даже застыв от горя, оно не приобретает выражение определенности, пусть даже трагической»[392]. Поэтому, возможно, именно она, как справедливо замечает И. Изволова, является первым частным человеком в советском кинематографе, представляющим только самое себя, а не социальный тип, идею и пр.

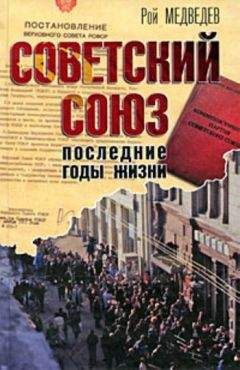
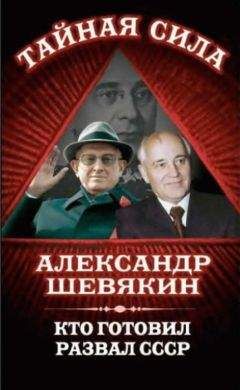

![Сергей Кремлев - Великий и оболганный Советский Союз [22 антимифа о Советской цивилизации]](/uploads/posts/books/183989/183989.jpg)