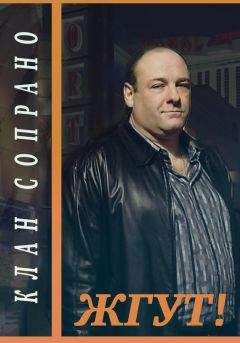Юрий Лотман - Сотворение Карамзина
Однако споры Мирабо и Мори, происходившие на глазах Карамзина, дали ему еще один урок. Он видел перед собой маркиза Мирабо, ведущего роскошный образ жизни, аристократа, отпрыска старинного семейства, мота и расточителя, честолюбца и циника, с трибуны Конституанты проповедующего идеи демократии и играющего роль народного трибуна. Одновременно он имел возможность наблюдать его противника аббата Мори. Выходец из бедной семьи сапожника-гугенота, лично испытавший гонения фанатиков и препятствия, которые ставил старый режим на пути одаренного человека из народа, Мори, обладавший способностями богослова и общественного деятеля и талантом оратора, был снедаем неуемным честолюбием. Ему приписывали фразу: «Тут я погибну или добуду себе кардинальскую шляпу». Зрелище аристократа, выступающего от имени народа, и выходца из низов, защищающего папство и корону, толкало Карамзина к тому, чтобы за пафосом политических деклараций различать борьбу честолюбий, жажду власти и успеха. Позже Карамзин писал: «Аристократы, Демократы, Либералисты, Сервилисты! Кто из вас может похвалиться искренностью? Вы все Авгуры, и боитесь заглянуть в глаза друг другу, чтобы не умереть со смеху. Аристократы, Сервилисты хотят старого порядка: ибо он для них выгоден. Демократы, Либералисты хотят нового беспорядка: ибо надеются им воспользоваться для своих личных выгод» [179].
Именно поэтому, видимо, внимание Карамзина привлек тот из политических деятелей Национального собрания, которого нельзя было упрекнуть в недостатке личной честности и который позже стяжал прозвище «Неподкупного».
Оляр дал яркую характеристику Робеспьера этого периода, того Робеспьера, которого видел и слушал Карамзин: «Быть верным морали — в этом для него заключалась вся политика». «Его красноречие — это быть честным со всеми и против всех». Близорукий, с тихим голосом, низко наклоняющий голову в очках над исписанными листками, Робеспьер выглядел в Ассамблее робким провинциалом и скучным моралистом. Он вызывал насмешки. Оляр назвал его Альцестом Национального собрания, раздраженным сарказмами политических Филинтов. Оляр воспользовался образами Мольера: Альцест — мизантроп, влюбленный в добродетель, Филинт — просвещенный оппортунист в вопросах морали и светский скептик. Действительно, с позиций салонных философов и благородных или циничных учеников XVIII века, всех, кто рассчитывал, Что дело ограничится реализацией идеалов, провозглашенных Монтескье или «Энциклопедией», Робеспьер был просто смешон, «но Мирабо не ошибся в нем, когда повторял: «Он пойдет далеко — он верит в то, что говорит»» [180]. Карамзин слышал Робеспьера многократно. В те дни, когда русский путешественник бывал в Конституанте, Робеспьер «не переставал говорить. Он брал слово во всех дискуссиях, стоявших в повестке дня. <…> Он долго говорил по всем вопросам, столь различным по своему характеру. И тем не менее, его не могли, как это было с аббатом Мори, упрекнуть в пустых декламациях, так как целью его было не столько глубокое обсуждение вопроса, сколько обнаружение того, в каких отношениях он находится к принципам нравственности». «Он хотел быть в Конституанте адвокатом бедных и униженных» [181].
Именно таким его запомнил Карамзин.
Но Карамзин мог слушать Робеспьера не только в Национальном собрании. Теперь, когда мы знаем, что в Париже он встречался с Роммом и Строгановым — оба были активными членами Якобинского клуба, не будет слишком рискованным предположить, что Карамзин посетил и этот клуб. Ведь, конечно, не для однократной беседы запасался он рекомендательным письмом к Ромму — он, уже, видимо, бывавший в Париже или, хотя бы со слов своих датских друзей, осведомленный о положении в столице революции. Ему хотелось проникнуть с помощью Ромма в те круги, в которые для него других путей не было. В центре этих кругов, бесспорно, находился Клуб якобинцев. Здесь обсуждались те же вопросы, что и в Ассамблее, но страсти были более накалены, высказывались мнения более крайние, а реакция слушателей была более непосредственной. Здесь можно было ощутить политический пульс Парижа. Клуб еще не приобрел того лица, которое определилось позже и превратило его в штаб революции. Тут выступали и лукаво игравшие с революцией братья Ламеты, гремел голос Мирабо, который мог в это время еще подниматься на трибуну то в Клубе якобинцев, то в политически противоположном ему Клубе фельянов. Но голос Робеспьера звучал здесь громче и увереннее, чем в Конституанте. Именно здесь начал вырисовываться масштаб его политической роли.
Карамзин наблюдал.
То, что он видел, его, вероятно, ужасало, но и влекло. Можно думать, что в вихре политических мнений, в потоке слов (не случайно позже он объединял кровь, проливаемую в гражданских распрях, и политические декламации: «Боюсь крови и фраз», — говорил он по поводу испанской революции) магнитной стрелкой для него была личная честность говорящих. С этим связана неожиданная, но засвидетельствованная достоверными и близко знавшими Карамзина мемуаристами — в частности, декабристом Н. И. Тургеневым, — глубокая человеческая привязанность его к Робеспьеру. Николай Тургенев вспоминал: «Робеспьер внушал ему благоговение. Друзья Карамзина (видимо, И. И. Дмитриев. — Ю. Л.) рассказывали, что, получив известие о смерти грозного трибуна, он пролил слезы; под старость он продолжал говорить о нем с почтением, удивляясь его бескорыстию, серьезности и твердости его характера и даже его скромному домашнему обиходу, составлявшему, по словам Карамзина, контраст с укладом жизни людей той эпохи» [182]. Мнение это тем более должно было удивить Николая Тургенева, что сам он к Робеспьеру относился весьма отрицательно. Однако этому не следует удивляться: декабрист Тургенев, когда думал о Робеспьере, видел перед собой исторического деятеля, известного ему по страницам книг и брошюр. Он оценивал политическую программу и историческую роль вождя якобинцев. Карамзин видел перед собой человека, его жесты и позу. Это совершенно иной тип знания, личный, интимный, который в принципе противоположен традиционно-историческому. Что же касается политических воззрений Робеспьера, то Карамзин в них видел, по всей вероятности, несбыточную утопию, мечту, обреченную на гибель. Отношение Карамзина к утопическим учениям было сложным. На протяжении почти всей его жизни мы обнаруживаем в его высказываниях борьбу утопических и скептических настроений. Его и влечет картина всеобщей гармонии, и мучат сомнения, и пугает образ суровой надличностной дисциплины, которая для него неотделима от утопизма. Утопия для него связана с республикой в духе Платона и подразумевает, с одной стороны, жесткую регламентацию сверху, а с другой — высочайшую и практически в современном обществе невозможную степень добродетели в каждом гражданине. На добродетели же строится добровольное подчинение человека общему благу. С утопическими учениями Карамзин познакомился еще в кругу Новикова — Кутузова. Именно тогда он заслужил прозвище Рамзея. Однако внимание на книгу Томаса Мора он, видимо, обратил в Париже. «Journal General de France» (n° 111, 15 sept. 1789) — газета, которую Карамзин должен был читать в Париже уже потому, что она давала наиболее подробные отчеты о заседаниях Национальной ассамблеи и о событиях в стране, — сообщала под рубрикой «Новые книги» о выходе книги:
«Du meilleur Gouvernement possible, ou la nouvelle Isle d'Utopie de Thomas Morus; traduction nouvelle, seconde edition, avec des notes, par M. T. Rousseau, A Paris, 1789. (О лучшем из возможных правлений, или Новый остров Утопия Томаса Мора. Новый перевод, второе издание с примечаниями г-на Т. Руссо, Париж, 1789.)
Мы имеем много свидетельств того, с какой жадностью ловил Карамзин в Париже новые книги. Однако, по всей видимости, не только у него книга Мора связалась с парижскими событиями: если первое издание этого перевода (оно появилось в 1780 году) прошло в России незамеченным, то второе сразу же было переведено на русский язык. В том же году в Петербурге появилось издание: «Картина всевозможно лучшего правления, или Утопия». Сочинения Томаса Мориса, канцлера аглинского в двух книгах. Переведена с аглинского на французский г. Руссо, а с французского на российский. СПб., на иждивении И. К. Шнора, 1789. В следующем, 1790 году нераспроданная часть тиража появилась под несколько измененным названием: «Философа Рафаила Гитлоде странствование в Новом Свете и описание любопытства достойных примечаний и благоразумных установлений жизни миролюбивого народа острова Утопии». Перевод с аглинского языка сочинение Томаса Мориса, СПб., 1790.
Обычно перепечатка титульного листа имела коммерческий смысл: читатель воспринимал книгу как новое издание. Однако в данном случае очевиден маскировочный характер этого действия: книга стилизовалась под путешествие, а ложное указание на перевод с английского должно было отвести опасные ассоциации.