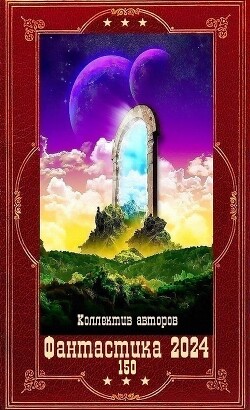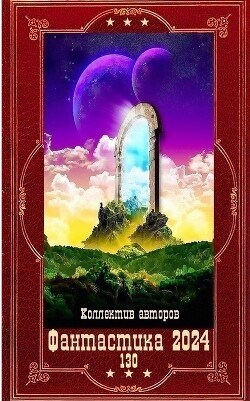Пол и секуляризм (СИ) - Скотт Джоан Уоллак
Статья 18 Всеобщей декларации прав человека (1948) провозглашает «свободу мысли, совести и вероисповедания» и право «публично или в частном порядке» демонстрировать свою веру [342]. При обсуждении текста Декларации предложение Советского Союза защитить права «свободомыслящих» (то есть неверующих) было отвергнуто. Однако требования включить Бога как источник права на свободу вероисповедания также потерпели поражение (что неудивительно) благодаря доводам французского делегата, напомнившего о том, что «у закона не может быть другого источника, кроме воли народа» [343]. И все-таки в европейском контексте свобода вероисповедания возобладала. Мойн утверждает, что
в некоторых отношениях западные европейцы в эпоху Холодной войны зашли гораздо дальше в стирании грани между публичным господством христианства и политической жизнью, чем это сделали американцы [344].
В качестве убедительного доказательства этого утверждения он указывает на Европейскую конвенцию о защите прав человека, принятую в 1950‑м. В ее подготовке и обсуждении ключевую роль сыграли христианские демократы. Во многих выступлениях, как указывает Мойн, западная цивилизация приравнивалась к христианству. Так, делегат от Ирландии подчеркивал:
Мы должны ясно показать, что наши концепции прав человека отличаются от того, что мы видим в Восточной Европе… Там прилагают усилия к тому, чтобы погасить свет Церкви — не одной церкви, но почти всех церквей… Мы здесь в Европейском Совете можем стать сплачивающей силой и ориентиром для мужчин и женщин, которые борются с такого рода преследованиями [345].
Ради борьбы с социализмом у себя дома, утверждает Мойн, из Европейской конвенции о защите прав человека были опущены многие социальные и экономические права, которые есть в Декларации прав человека, но оставлена свобода вероисповедания. При этом добавлена возможность того, что государство может ее ограничить, когда это
необходим[о] в демократическом обществе в интересах общественной безопасности, для охраны общественного порядка, здоровья или нравственности или для защиты прав и свобод других лиц [346].
Как указывает Мойн, эта оговорка сегодня стала главной для ограничения прав мусульман в секулярных христианских странах Западной Европы.
Мойн утверждает, что Европейская конвенция о защите прав человека — документ, нацеленный на то, чтобы в целом маргинализировать секуляризм, — «отказ» европейцев «от Бога и Святого Писания в сфере социально-политической жизни», который, как утверждал католический философ Жак Маритен в 1951 году, привел к «теоретическому атеизму Советского Союза» [347]. Я полагаю, что Мойн слишком поторопился согласиться с идеей о том, что секуляризм каким-то образом противоположен религии, тогда как на самом деле в нем издавна присутствовала христианская составляющая. По крайней мере, некоторые из тех, кто нападал на советский атеизм, подразумевали, что они не практиковали западный секуляризм, потому что у них секуляризм был лишен религиозного компонента. То есть важно было различие между секуляризмом и атеизмом, а именно его Мойн и не признает. Он склонен прочитывать слово «атеизм» как синоним секуляризма — даже если это было не так в политическом дискурсе тех лет. Кроме того, он часто вставляет слово «секуляризм», ссылаясь на тексты, в которых оно на самом деле не употребляется {11}. Я полагаю, что иная характеристика американской инструментализации религии в период холодной войны, которую дает Диан Кирби, больше подходит в качестве интерпретации, которая может быть расширена до таких примеров, как Европейская конвенция о защите прав человека.
Культивирование популярных представлений о моральном лидерстве США и использовании власти в благих целях означало, что религиозные ценности все чащи представали в секулярных формах. В этом отразился процесс ассимиляции и перевода религиозной системы ценностей в секулярную этику [348].
Кирби пишет, что происходил
похожий процесс в Европе, где успеха на выборах добивались христианские демократы, послевоенный феномен, который остался значимой силой в европейской политике на всю оставшуюся часть столетия [349].
Эта секулярная этика имела отношение к политическим понятиям свободы и демократии и ассоциировавшимся с ними практикам (выборы, разделение властей, терпимость к разным политическим взглядам, свобода прессы), которые теперь рассматривались как неизбежное наследие христианства, но не как прямая имплементация этой религии — в противном случае в глазах этих политиков это была бы теократия, не демократия. Христианская и демократическая секулярность стали синонимами в риторике холодной войны в противопоставлении тому, что осуждалось как советский атеизм. В новом столетии это подготовило почву для отвержения ислама как неприемлемой религии в силу его теократического и недемократического характера — но не раньше, чем ислам был мобилизован как религиозная сила на борьбу против Советов.
В антикоммунистических кампаниях русские часто описывались как часть «азиатских орд». Министр военно-морских сил США Джеймс Форрестол полагал, что Советы были «по сути дела восточными людьми по своему складу ума». Госсекретарь Дин Ачесон добавлял, что «угроза, которую они представляли для Европы» была сопоставима с «угрозой, которую столетия назад представлял ислам» [350]. В этих едва прикрытых намеках на крестовые походы христиан против мусульман не было недостатка в ориенталистских образах. На плакате французской антикоммунистической группы «Мир и свобода» был изображен смуглый длинноносый мужчина в феске, похожий на турка, с окровавленными мечами и в руках, и в зубах, танцующий под музыку, которую играют на балалайках сочувствующие ему европейские государственные деятели. На немецком антибольшевистском плакате изображен похожий «азиатский» тип, а афиша фильма киностудии Paramount предупреждала, что победа России в следующей войне приведет к стерилизации большого числа американских мужчин и изнасилованию женщин [351]. На картинке крошечная изнасилованная женщина, съежившись, лежит под огромным сапогом, а подпись гласит: «Если коммунисты одержат победу, наши женщины будут беззащитны под сапогами русских азиатов». Некоторые ученые видели потенциальную связь между советским строем и исламом. Например, в 1954 году Бернард Льюис беспокоился, что привлекательность авторитаризма «может подготовить интеллектуально и политически активные группы [в мусульманском мире] к принятию коммунистических принципов и методов управления» [352].
В этих ориенталистских темах, которые уподобляли русский коммунизм воинствующему исламу как форме «восточного деспотизма», можно проследить некоторую преемственность между холодной войной и столкновением цивилизаций. Но этот путь не был прямым; полемика — это одно, а стратегические расчеты — совсем другое. Западные державы под предводительством Соединенных Штатов надеялись сделать мусульман подрывной силой внутри советского блока: критика навязываемого государством атеизма казалась хорошей объединительной идеей для всех религиозных групп. Они также стремились противодействовать растущим антиколониальным, панисламистским националистическим движениям на Ближнем Востоке (многие из которых вдохновлялись той или иной формой социализма) и поэтому призывали мусульманских консерваторов присоединиться к христианскому крестовому походу против коммунистов на позициях морального превосходства, которое дает свобода вероисповедания. США стремились установить контакты с Саудовской Аравией, родиной ультраконсервативного ваххабизма, в надежде заполучить союзника против египетского лидера Гамаля Абдель Насера, поставившего перед собой цель организовать панарабистское движение для борьбы с вмешательством Запада в дела развивающихся стран арабского мира. Антилевые настроения побудили Запад поддерживать подобные авторитарные формы политического ислама в борьбе с реформистскими (секулярными) формами. При этом либеральные альтернативы подавлялись на основании их опасной близости к советским проектам. Кирби пишет, что