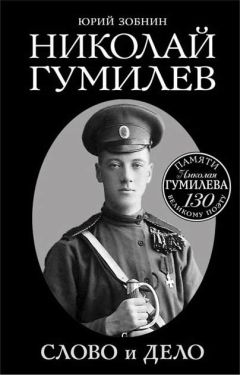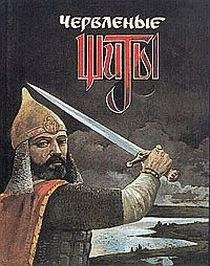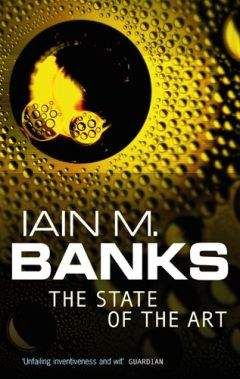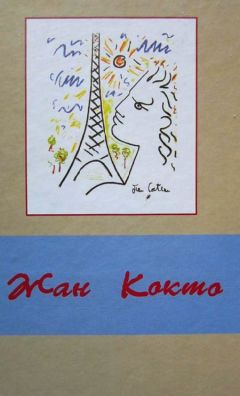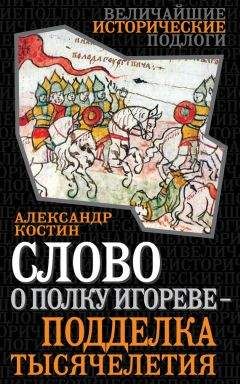Наталия Злыднева - Изображение и слово в риторике русской культуры ХХ века
Илл. 93. И. Мештрович. Родник жизни. 1905. Бронза. Загреб.
«Родник жизни» – бронзовая скульптура, установленная на одной из загребских площадей, имеет вид округлой в плане композиции с расположенной в центре чашей (=родника, фонтана, источника), вокруг которой сгруппировалась вереница фигур в высоком рельефе. Сплетенные между собой, плотно прижавшиеся друг к другу сидящие фигуры представляют цикл человеческой жизни – от ребенка и влюбленной пары до безутешной вдовы и старика, описывая рождение, любовь, зрелость и старость. Эта универсальная топика, особенно характерная для барокко, где она реализует тезис о бренности земного бытия, в модерне становится одним из мотивных логотипов стиля (ср. композиции Холдера). Мештрович увязывает формальную и содержательную стороны этой идеи, накладывая нарративную композицию на цилиндрическую поверхность, с мотивом воды, подразумеваемой метафорическим уподоблением «колодезь как родник жизни». Монументальное целое композиции задается плавной ритмикой перетекающих друг в друга форм, их активной проработанностью. Монолитность рельефа подчеркнута и ритмической разбивкой – всплесками пластических узлов, напоминающих легкие волны. Волна не является здесь предметом буквального изображения. Она проявляется подспудно – как на уровне общей организации формы, так и отсылая к мифопоэтике водной стихии, которая рождает жизнь, предрекает смерть и бесконечна как сам круговорот природных метаморфоз. Можно сказать, что представленная в произведении ритмика воды, которая осмыслена символически, и есть, по существу, самое точное приближение к пластической передаче мотива волны. Позднее в своем долгом и многообразном творческом пути мастер отойдет от типичной для «Родника жизни» роденовской лепки, однако останется верен мотиву колебательного движения параллельных линий, передающих волну – будь то женские волосы, очертания плоскостных драпировок или графичная силуэтность напряженной мускулатуры (например, хранящийся в Сплите мраморный рельеф «Танцовщица», 1910, деревянные рельефы капеллы Каштелет, 1917, также из Сплита) [илл. 94]. Единство семантики мотива и организации формы демонстрируют в этом произведении характерную для модерна амальгаму того, что и как изображено.
* * *Примеры из русского искусства, а также европейского модерна показывают, что тема и рема нашли в волне благодатную почву для своего слияния. Принцип автореферентности художественного текста, заложенный еще в символизме, поднятый на щит авангардом и получивший развитие во всей последующей культуре века, может быть сведен к визуализации волны. В этом отношении представляют интерес проекции мотива в литературе – поэзии начала века. Мотив волны в литературе символизма чрезвычайно распространен. Он особено значим для тех мастеров, которые совмещали литературное творчество с живописью. Так, у Рериха мы находим: «Не беги от волны, милый мальчик, / Побежишь – разобьет, опрокинет, / но к волне обернись, наклонися / и прими ее с твердой душою»[152].
Илл. 94. И. Мештрович. Танцовщица. 1911. Мрамор. Загреб. Ателье И. Мештровича.
Однако весьма существенна и скрытая изобразительность – целиком решаемая словесными средствами. Наиболее репрезентативной фигурой в этом плане следует считать Михаила Кузмина.
Поэтический мир раннего Кузмина – этого наиболее выраженного «эмоционалиста» в поэзии начала века – отмечен мотивом волны. Мифопоэтические смыслы этого мотива в поэзии Кузмина развиваются темами непостоянства любви и непредсказуемости стихии чувств. Обе темы определяются мотивами моря, морской стихии, вечной смены отливов и приливов: «То бесстыдны, то стыдливы, / Поцелуев все отливы» // «Сердце женщины – как море / Уж давно сказал поэт. / Море, воле лунной вторя, / то бежит к земле, то нет»; «У печали на причале / Сердце скорби укачали / Не на век» и т. п. Характерно, что мотив волны как амбивалентность эмоций и призрачность любовных игр отмечает только поэзию раннего Кузмина (сборники «Сети», «Александрийские песни» 1908), позднее удельный вес мотива падает. В этому мотиву поэт возвращается только в своих последних сборниках: «Параболы» (1923), «Форель разбивает лед» (1929), но уже с иной смысловой нагрузкой. Теперь тема волны разведена на две составляющих: в своей пассивной роли она эквивалентна стеклу, льду, необоренному воспоминанию («Стеклянно сердце и стеклянна грудь…/ Прилив, отлив, таинственный обмен»), а в активной – форели, разбивающей лед-стекло, таянию льда, роднику «любовных вод» и в конечном итоге – преодолению памяти. Сам образ форели чрезвычайно пластичен, визуален: его можно считать знаком-индексом волны.
Волна особенно характерна для топики раннего периода творчества поэта. Если у позднего Кузмина мотив волны выступает в скрытом виде в составе сложного семантического целого, то в ранних сборниках он проявляется открыто, наделяясь чертами изобразительности. Так, волна как чистая метафора в сборнике «Сети» дополнена волной графически-метрической в сборнике «Александрийские песни» (верлибр). Параллелизм изобразительного и вербального ряда в репрезентации этого мифопоэтического образа заставляет думать не только об особой текстопорождающей силе последнего в культуре на переломном, исполненном «колебаний» этапе истории, но и о природе потребности в такой силе. Очевидно, имеет место процесс высвобождения приема как конструктивного принципа новой поэтики. У Кузмина это высвобождение – не только в артистическом двуединстве этической позиции, выражаемой наиболее спрямленным способом в мотиве волны, но и в стилизации как таковой, где «волновость» отражена по признаку перенесения акцента с собственно семантики на синтагматику. Иными словами, здесь имеет место обнажение приема-стилизации, что соответствует характерному для Кузмина принципу остраненности лирического чувства. Волна как метафора повтора, «второй натуры» в культуре воплотилась в игрушечно-театральном, хрупком и изящном поэтическом мире Кузмина с его апологией «заката солнца» на фоне воспетой мирискусниками иллюзорности момента, сотканного из бесконечных соединений приливов и отливов времени, то есть волнообразности.
Волна как прообраз обнаженного приема не случайно связала мирискусников с предакмеизмом Кузмина: как в творчестве поэта, так и в живописи и графике «проговорил» тот центральный элемент-активизатор, которому суждено было привести к коренным трансформациям художественного мышления в последующее десятилетие. Мифопоэтические смыслы мотива волны, присутствующие здесь еще на правах спонтанного архаизма традиции, преобразятся в катализаторы ритуальных знаков-действий авангарда в его волевых реархаизирующих интенциях.
Глава 2. Инсектный код и абсурд в авангарде
В ряду мотивов, интегрирующих вербальное и визуальное начало в авангарде, важное место занимает мотив насекомых. Его можно даже назвать особым кодом, эксплицирующим специфику переживания авангардными мастерами пространства и времени. Инсектный код демонстрирует один из видов вербально-визуального синтеза в культуре, имеющих прямые проекции в риторическую картину эпохи. Для России характерно, что эта картина парадоксальна по преимуществу, поэтому прежде чем говорить о проявлениях мотива в поэтике культуры, целесообразно затронуть вопрос об абсурде на русской почве.
Русский абсурд очевидным образом отличается от абсурда западного. В своем предисловии к сборнику работ о парадоксе в русской литературе Вольф Шмид убедительно разводит понятия парадокса и абсурда как отрицание доксы в первом случае и отрицание верного во втором, но при этом замечает, что от парадокса до абсурда – один шаг[153]. Примечание это очень существенно для понимания статуса и типологии парадокса в русской (языковой) картине мира. Абсурд по-русски звучит как несуразица, то есть – несоразмерность, тем самым акцентируется его негативный модус (не-соразмерность). То обстоятельство, что в основании смысла лежит концепт размера – количественное начало – позволяет рассматривать русский абсурд как частный случай парадокса или, по крайней мере, отмечать зону совпадения между парадоксом и абсурдом (т. н. верное количество окказионально, т. е. относительно, и потому являет собой своего рода доксу). Именно на данном аспекте абсурда в русской культуре XX века как парадоксе размерности, сближения удаленных масштабов и ряда обусловленных этим структурных особенностей пространства в топике и риторике авангарда мы сосредоточимся в настоящей главе.