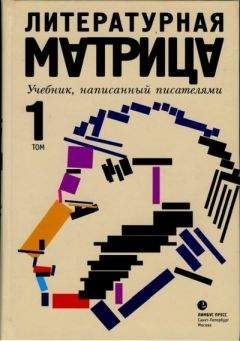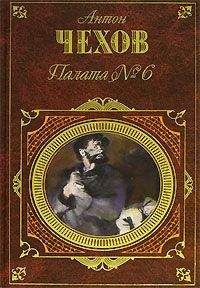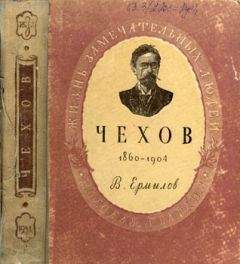Илья Бояшов - Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. Том 2
Свое одиночество Маяковский предсказал заранее, еще мальчишкой, — это была одна из масок, которую он примерял на себя, как это всегда делают романтические натуры. В ранних стихах он изображал толпу и одинокого гения, непонятого чернью, — как это делают все поэты. Маяковский следует общей традиции — это не оригинально. Просто одним романтическая маска требовалась лишь на время, другие жили одинокими всю жизнь, и их одиночество из романтического состояния переходило к отчаянному. Маяковскому еще повезло, как мало кому везло: он собирал тысячные аудитории, путешествовал по миру, являлся полпредом советской поэзии, был обеспечен материально, печатался и переводился. Гумилев в тюремной камере, Мандельштам в лагере, Цветаева в Елабуге, Ходасевич в эмиграции, Пастернак во время травли и т. д. и т. п. — все эти люди были куда более одиноки. А если взглянуть шире — на Европу эпохи первой мировой — то одиночек и там найдется предостаточно. Эта эпоха, предвоенная и межвоенная, — была эпохой общей растерянности. Это была та эпоха, в которую люди творческие становились одинокими просто в силу того, что мораль не поспевала за прогрессом— достаточно вспомнить героев Чаплина, Хемингуэя и Ремарка. Одиночество — общий приговор.
История искусств того времени — демонстрация различных стадий отверженности от общества. Самые распространенные сюжеты — это портреты проституток; одинокие клоуны, скитающиеся по дорогам; бродяги — любители абсента, и т. д. и т. п. И ранний Маяковский не сказал ничего оригинального по сравнению с созданным Пикассо, Ван Донгеном, Сутиным, Руо, Гроссом, Модильяни, Паскином, Чаплином. Скорее наоборот, он работал в общепринятой традиции — тогда так делали все. Маяковский не более других ненавидел толстосумов и толпу. Это общее место. Он, как и многие поэты, не принимал этот мир, но на то и существует поэт — чтобы мир не принимать. Он, как и многие поэты, отождествил себя с отверженными — в его ранней лирике этими отверженными были хрестоматийные клоуны, бродяги, проститутки. Нельзя сказать, что судьбы странствующих комедиантов искусство переживало глубоко, — эти персонажи скорее символизировали одиночество самого творца, играли роль декораций. Когда Маяковский пишет умопомрачительную тираду «меня одного сквозь горящие здания проститутки, как святыню, на руках понесут», то представляешь себе отнюдь не персонажей
Хитрова рынка, совсем не реальных московских проституток, описанных, скажем, Куприным. Нет, для такой театральной постановки нужны девушки кисти Ван Дон-гена: большеглазые, красногубые, у какой чулок спущен, у какой плечико голое, а за ними — тревожное зарево. Впоследствии, когда в качестве отверженных поэт выбрал не условных изгоев, а конкретных пролетариев, он перестал нуждаться в декорациях. Но в своей ранней лирике — именно в декорациях и нуждался.
Нельзя сказать, что Маяковский был не понят, а остальные — поняты; нельзя сказать, что он хотел служить людям, а вот Пастернак, например, — не хотел. Или Цветаева — не хотела. Были поэты-гедонисты[80], вроде Гумилева, Северянина, Есенина, но и они страдали от непонимания: вот, они несут миру новое слово, а мир глух. Дикое одиночество выражено в прощальной поэме Есенина «Черный человек». Но проблема всех говорящих и неуслышанных была общая: они говорили в основном о себе, о своем состоянии души, а подавляющему большинству людей это не особенно интересно. Маяковский отличался от других поэтов тем, что хотел людям говорить о том, о чем интересно именно этим людям. Он готов был пожертвовать своим интересом ради их интересов.
5Принято считать, что одиночество Маяковского было особой природы — природы, так сказать, пророческой. С ранней юности он почувствовал призвание взять на себя грехи мира и провозгласил себя апостолом, то есть лицом, наделенным особой судьбой. Не просто писать стихи, как прочие поэты, но служить посредством стихосложения человечеству — вот его стезя.
Однако — и об этом свидетельствуют сами стихи Маяковского — именно этот пункт (служение людям как цель искусства) выявляет много несовпадений и противоречий. Прежде всего, новый апостол собирается служить не всем людям. Некоторых он не любит, и служить им, несомненно, не хочет — он даже негодующе спрашивает: «Вам ли, любящим баб да блюда, / жизнь отдавать в угоду?!»[81] Понятно, он не собирается служить богачам, капиталистам и рантье. Но штука в том, что другим — тем, которые отнюдь не толстосумы, — он тоже служить хочет избирательно, не всем подряд. Так, Маяковский с ранних стихов отвергает толпу, противопоставляет толпе — поэта, и в одиночестве находит единственное спасение. Он смотрит на скопление народа и вопрошает, глядя на физиономии: «чья не извозчичья?» [82]Очевидно, что толпа не блещет положительными качествами, скопление людей вообще провоцирует животные, стадные чувства — они все вместе куда-то катятся, бездушные хамы, и для сострадания ближнему закрыты их сердца. Толпа — это не привилегированные богачи, толпа — это просто набор обывателей, потребителей, мещан. Эти мещане лишены идеалов и живут по меркам материального мира — ясно, что поэту они враги. Правда, тот же самый Маяковский в других стихах говорит, что готов бросить свое поэтическое ремесло ради толпы — готов «каплей литься с массами». Огромное скопление народу может, как выясняется, вызывать и положительные эмоции — люди, сбившись в кучу, охвачены общим порывом (например, палить помещичью усадьбу), и поэт их приветствует. Вот тут появляется смысловая неразбериха — между массой и толпой разница почти неуловима. Скажем, на немецкий эти понятия переводятся одним и тем же словом, да и по-русски не сильно различаются. Собственно говоря, огромное скопление людей не может быть разным по качествам — люди, они и есть люди, каким словом ни назови большое их количество. Когда в кучу собирается много людей (что на площади, что в трамвае, что в колонне демонстрантов), то все элементы этого сообщества приобретают однородные свойства. Как можно служить массе, а не служить толпе?
Эта путаница так и осталась неразрешенной в стихах Маяковского — более того, из-за этой смысловой невнятицы все его творчество распадается на две части, и связать эти две части невозможно. Поэт истово хочет служить людям, ради служения людям он готов наступить «на горло собственной песне», отказаться сам от себя — это одна сторона биографии. Поэт презирает мещан, ненавидит толпу обывателей, ничего гаже, нежели мещанская мораль, для него не существует — это сторона другая. Однако мещанская мораль присуща любой толпе, мещанская мораль — это просто бытовой интерес, поставленный впереди идеала. Стачки, демонстрации, погромы, очереди — словом, любое людское скопление управляется именно бытовым интересом. Можно принять возбужденный интерес за идеальный порыв, но это недостоверная посылка. Маяковский ждал от скопления людей некоего эмоционального взрыва, равного религиозному экстазу, — и хотел верить, что революция ввергла толпу в этот экстаз и толпа преобразилась, утратила присущие ей черты. Отныне (так полагает поэт) толпа уже толпой не является — толпа стала массой. И эта масса будет испытывать духовные потребности, а не телесные. Маяковский апеллировал к некоей идеальной толпе, к обществу сверхлюдей, людей возможного будущего — а современную ему реальную толпу недолюбливал. В его отторжении от толпы и амбиции нести той же самой толпе свет истины есть перекличка с ницшеанским Заратустрой; впрочем, он сам себя и называет «крикогубым Заратустрой». Подобно Заратустре, он идет к людям, чтобы им служить, но в смирении своем хранит сверхчеловеческую гордость и презрение к тем, которых хочет осчастливить. В его стихах желание распять себя «на каждой капле слезовой течи»[83] благополучно чередуется с призывами «На пепельницы черепа!»[84]. Легко допустить, что те, чьи черепа предназначены на пепельницы, тоже плачут, но, вероятно, именно на их слезах поэт себя распинать не намерен. Жестокости в его стихах принято оговаривать: это, де, так — метафора, не всерьез. Однако какой именно из приведенных примеров — метафора? Черепа для пепельниц действительно использовали, а вот на слезе распять себя невозможно. Может быть, метафора — это как раз насчет слез? Возможно, что и жестокости, и прекраснодушие, и то, и другое — метафоры. Но жестокость выглядит более натурально, «…люди, / и те, что обидели — / вы мне всего дороже и ближе»[85], — восклицает поэт; и этот же поэт говорит: «…выше вздымайте, фонарные столбы, / окровавленные туши лабазников».[86] Конечно, лабазники поэта обидели, но ведь он утверждает, что те, кто обидели, даже дороже прочих, — так неужели именно лабазников простить не может? Когда поэта захлестывает бешенство, его стих делается чеканным и страстным — вдохновение трудно имитировать. «Сегодня / надо / кастетом / кроиться миру в черепе!»[87] — сказано так, что не забудешь. А рядом — пожелания пожертвовать собой во имя людей и благие намерения выражены так же страстно: «…душу вытащу, / растопчу, / чтоб большая! — / и окровавленную дам, как знамя»[88]. Чему верить? Да и образ растоптанной души какой-то сомнительный. Что же получается: если поэт, ради служения людям вытащил из себя душу — он стал бездушным? И может ли такой бездушный — людям служить? Коротко говоря, в теме служения людям много неясного — поэт искренне хочет им служить, но люди попались ему крайне неудачные, и он разочарован.