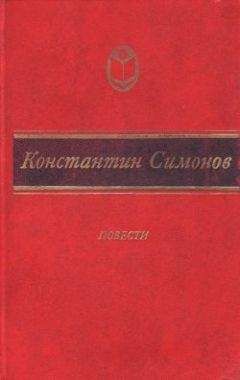Хэролд Блум - Страх влияния. Карта перечитывания
«Крайне нехорошо (хотя тут уж ничего не поправить), что мы открыли для себя, укоренившись в таком открытии, самый факт своего существования. Открытие это связано с идеей грехопадения. С самого момента открытия мы перестали доверять своей физической природе. Мы постигли, что познаем не прямо, но опосредованно, и что нам не дано отрегулировать фокус тех, по-разному окрашенных и искажающих реальность линз, какими мы являемся, как не дано нам и установить точную меру производимого ими искажения…»
Когда сильный поэт постигает, что он познает не прямо, а опосредованно, при посредстве предшественника (частенько — образ собирательный), он не способен, как Эмерсон, принять беспомощность всех попыток исправить свой взгляд или вычислить угол зрения, т. е. угол падения, угол ослепляющего искажения. Ничто не может быть менее великодушным, чем поэтическое «я», борющееся за выживание. Так заявляет о себе формула Эмерсонова Возмещения: «Ничто не дается просто так». Мы очарованы чужим стихотворением, и за это расплачиваемся своим стихотворением. Если наше поэтическое «я» любит другого, оно любит в другом себя; но если оно любимо и принимает эту любовь, тогда оно меньше любит себя, потому что оно знает, что не особенно заслужило любовь к себе. Поэты-как-поэты не любвеобильны, а критики слишком неохотно признают этот факт, вот почему критика все еще не обратилась к своей собственной задаче: к изучению проблематики утраты.
Позвольте мне редуцировать мое рассуждение к безнадежно простой форме: стихотворения, говорю я, не пишутся ни о «предметах», ни о «самих стихотворениях». Они неизбежно пишутся о других стихотворениях; стихотворение — это отклик на стихотворение, поэт — отклик на поэта, человек — на родителя. Попытка написать стихотворение возвращает поэта к истокам того, чем стихотворение было для него первоначально, и таким образом возвращает поэта в область, находящуюся по ту сторону принципа удовольствия, к решающей первой встрече и к отклику на нее, которые и становятся началом поэта. Мы не считаем У. К. Уильямса поэтом в духе Китса, и все же он начал и закончил свой путь как таковой, и поздняя слава его Зеленого Цветка — еще один отклик на поэзию Китса. Только поэт бросает вызов поэту как поэту, и потому только поэт создает поэта. Поэт-в-поэте в стихотворении всегда видит другого, предшественника, и потому стихотворение — это всегда личность, всегда отец, виновный во Втором Рождении. Для того чтобы жить, поэт вынужден неверно толковать отца в ходе критического недонесения, т. е. переписывания отца.
Но кто такой или что такое поэтический отец? Голос другого, даймона, уже звучащий в самом поэте; голос, не способный умереть, так как он уже пережил смерть, — мертвый поэт, живущий в живом. В последней фазе сильные поэты стремятся приобщиться к Бессмертию, оживая в мертвых поэтах, уже живущих в них самих. Это позднее Возвращение Мертвых напоминает нам, читателям, о необходимости признать первоначальный мотив катастрофы поэтического воплощения. Вико, отождествлявший истоки поэзии со стремлением к дивинации (к предсказанию, но и к превращению в Бога в результате прорицания), в глубине души понимал (как Эмерсон, как Вордсворт), что стихотворение написано для того, чтобы убежать от смерти. Без преувеличения можно сказать, что стихотворение — отрицание смертности. У каждого стихотворения в таком случае два создателя: предшественник и опровергнутая смертность эфеба.
Я заключаю, что поэт не столько человек, говорящий с человеком, сколько человек, яростно протестующий против того, что с ним говорит мертвец (предшественник), более живой, чем он сам. Поэт не желает считать себя последышем, и все же он не способен согласиться на замещение первого видения, размышляя о котором, он заключил, что оно также и видение предшественника. Быть может, поэтому поэт-в-поэте не может жениться, каков бы ни был выбор человека-в-поэте.
Поэтическое влияние в том смысле, который придаю ему я, не имеет почти никакого отношения к сходствам словарей двух поэтов. Харди, на первый взгляд, едва ли похож на Шелли, своего первопредшественника, но Браунинг, еще меньше похожий на Шелли, был все же даже более последовательным эфебом Шелли, чем Харди. То же самое можно сказать об отношении к Шелли Суинберна и Йейтса. Опасным, вплоть до одержимости долгом эфеба предшественнику, становится то, что Блейк называл Духовной Формой, исконное поэтическое «я» и в то же время Истинно-Сущий Субъект. Поэтам необязательно быть похожими на своих отцов, и страх влияния чаще отличается, чем не отличается от страха стиля. Поскольку поэтическое влияние — неизбежно недонесение, превратное истолкование бремени или неверное действие над ним, можно ожидать, что этот процесс неправильного формирования и неверного истолкования приведет сильного поэта, по крайней мере, к отступлениям от стиля других сильных поэтов. Вспомним, что создает стихотворение, согласно настойчивым утверждениям Эмерсона:
«Однако же стихотворение создают не стихотворные размеры, а мысль, сама создающая эти размеры, мысль столь живая и страстная, что она, как и душа растения или животного, обладает ей одной присущим строением и вносит новое добавление в природу. Во временной последовательности мысль и форма равны, но в последовательности генетической мысль предшествует форме. Поэту явилась новая мысль; он может теперь раскрыть перед нами совершенно новый жизненный опыт; он расскажет о том, как он приобрел этот опыт, и его богатство обогатит нас всех. Каждая новая эпоха требует выражения своего опыта, и, видимо, мир во все времена ждет своего поэта…»
Эмерсон не согласился бы с тем, что мысли, создающие размеры, сами подвержены тирании наследства, но они ей подвержены, и из всего, что я знаю о поэтах и поэзии, это — печальнейшая истина. В лучших стихотворениях Харди главной, создающей размеры мыслью может быть названа скептическая жалоба на безнадежную несовместимость целей и средств всех человеческих действий. Любовь и ее средства невозможно свести воедино, и самым правильным названием условий человеческого существования будет слово «утрата»:
И пропасть иного добра…
О время, повремени! —
Их плиты изрыты дождем.
Это последние строки настолько хорошего, насколько это вообще возможно в нашем веке, стихотворения «Под ветром и дождем». Подобно «Течению частностей» Стивенса, большей части важнейших стихотворений Йейтса и многим другим стихотворениям, оно — правнук «Оды западному ветру». Старомодный пожиратель падали подверг бы мои наблюдения критике, а я в ответ, по его же примеру, всего лишь повторил бы рефрен в том варианте, в котором он упоминается впервые:
О время, повремени! —
Лист осыпается в пруд.
Но такую манеру рассуждения можно просто игнорировать. Поэтическое влияние сильных поэтов друг на друга протекает в глубинах, там же, где антитетически сбывается любовь. В центре лирики Харди, как в ранних «Уэссекских стихотворениях», так и в поздних «Зимних словах», пребывает вот это видение:
И я со скорбью думал, отчего же
Власть с волею здесь в мире Бог не слил
И почему не примирил ты, Боже,
Добро со средством достигать добра?
Насколько б все нам сделалось дороже!
И стала мне почти скучна игра
Познания времен, что перестали
Существовать, но были лишь вчера
Из «Торжества жизни» Шелли мы можем заимствовать и героический девиз столь многих героев романов Харди: «И с жизнью бились мыслями своими,/Но жизнь сильнее..» Эти же слова вполне могли бы стать эпиграфом и к превосходному сборнику «Зимние слова в разных настроениях и размерах», опубликованному 2 октября 1928 года, уже после смерти Харди, скончавшегося 11 января того же года. Харди надеялся издать эту книгу 2 июня 1928 года, в свой восемьдесят восьмой день рождения. Некоторые стихотворения сборника написаны еще в 1860-е годы, но большая их часть написана после того, как в 1925 году появился сборник лирики Харди «Театр жизни». Только некоторые, весьма немногочисленные сборники лирики, изданные в двадцатом веке на английском языке, можно поставить рядом с «Зимними словами». Хотя в сборник включены весьма разнообразные стихотворения и у него нет единого замысла, его главная тема — противостояние бремени поэтического воплощения, которое можно назвать Возвращением Мертвых, охотящихся за Харди, представшим перед лицом своей смерти.
В раннем стихотворении «Жаворонок Шелли» (1887) Харди, используя стиль Браунинга, современного ему последователя Шелли, говорит о «восторженных высотах мысли и песни» своего предшественника. Современные критики, даже обожая Шелли, невысоко ставят «Жаворонку», это стихотворение, скорее всего, чересчур восторженно для большинства вариантов современной чувствительности, но можно предположить, почему оно так воодушевило Харди: