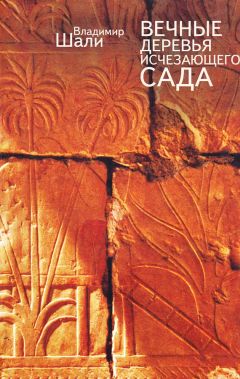Владимир Бибихин - Переписка 1992–2004
Прошу Вас, передайте от меня поклоны Сергею Сергеевичу [12], скажите, что мое отношение к нему такое же точно, как 30 (!) лет назад, когда я сидел завороженный на его лекциях по эстетике отцов Церкви, — и Константину Борисовичу Сигову тоже, с теми же мыслями, что мое удивленное и восторженное отношение к нему никогда не переменится. — С пожеланиями счастливых встреч в Риме, с надеждой увидеть Вас в Москве уже 4 или 5 июля, с поклонами от Олечки —
В.
[Из Рима, 2.7.1996]
Дорогой Владимир Вениаминович
Che peccato che non è qui! [13]
mi spiace tanto, davvero!
Пишу Вам эту записку, пьяная fisicamente, anche moralmente (так выражается автор книги, которую я перевожу, про Fuga mundis [14]). В конце дня, когда мы встречались с Папой [15]. Что сказать: он понимает все. Miracolo!
Спасибо Вам за письмо. Я Вас так люблю, и Ольгу, и деток. Пия Пера (автор итальянской версии «Онегина») шлет Вам открытку из своей родной Луки [16], где мы о Вас говорили, и мальчикам Вашим приобрели плавательную черепаху (надеюсь, довезу).
Несмотря на то что Рим мне дом родной, скоро я вернусь (не знаю пока числа, может быть, 8 июля, а может, через неделю еще).
Простите за каракули!
Поздравьте Ольгу с окончанием (ее просьбу я исполнила до отъезда).
Не болейте, пожалуйста.
Целую Рому, Володика, Олега, Ольгу и Вас.
С нежностью
Ваша
О.
Посылаю Ольге подарок от Папы, четки [17].
Азаровка, 28.7.1996
Дорогой Владимир Вениаминович,
я жду, что Вы, как собирались, навестите нас на днях — и наконец я увижу Ольгу и мальчиков (очень соскучилась), и при этом берусь писать письмо. Я читаю Ваше, полученное в Риме, и вновь думаю: какое счастье, что мы знакомы — и для меня поучительное счастье: помнить о вашей (Вашей и ваших) постоянно живой жизни — плодотворной в гётевском смысле.
На Ольгин день слепой Вадим, которого мы провожали, исповедовался, и очень громко, так что мне, ожидавшей очереди, было поневоле слышно: «Грешен в неисполнении евангельской заповеди: “Продай имение и раздай нищим”». — Ну, это потом, — спокойно сказал отец Димитрий, — а пока… — и тут они заговорили тише. Со мной он был милостив — как всегда? нет, не всегда.
Здесь в Азаровке римское время захлопнулось в какой-то мимолетный миг, едва ли и бывший. А ведь в нем — благодаря колоколам Santa Maria Maggiore, слышным в моей келье, — отбивалась каждая четверть часа. А за ужином на крыше близко над столами пролетали ласточки [18]. Все-таки жаль, что Вы туда не приехали. Мне кажется, Папа непременно полюбил бы Вас. Я прочла тут его книгу «Переступить порог надежды» по-русски, и мне так нравится! Такой личный опыт за этим. Например, в ответ на вопрос: «почему Бог не обнаружит Себя как-нибудь пояснее?» — он говорит: «мы вправе сказать, что Бог слишком много открыл людям самого важного, внутреннего, Божьего; открыл Себя в Своей тайне, не считаясь с тем, что откровение это в известной мере заслонит Его от наших глаз, ибо нам не вынести избытка Тайны». По-итальянски, думаю, это сказано еще точнее. Вам, конечно, не понравится, что Хайдеггера он зачисляет в общий ряд послекартезианской мысли, «рационализма». Но в целом в его словах я слышу то же предчувствие — счастья? величия? — как то, о чем Вы пишете, только что у него оно касается не России, а всего мира: он видит нашу эпоху не как конец** (**при этом бездарно понятый конец; физиологическое дряхление, выветривание, растрачивание последних сбережений — как во всех этих пост-настроениях), пост-…, а как канун. Этого я не чувствую в словах владыки Антония: кажется, что будущее, здешнее будущее, перед ним закрыто. Или это бодрость западного христианства, недоступная нам?
6.8.1996
Теплые дни прошли, похолодало, а Вы не появились. Я надеюсь, не из-за чего-нибудь плохого.
Вчера был сороковой день Никите Ильичу [19], и я знала, что собираются в Ясную Поляну, где его похоронили. Но из Азаровки, которая на полдороге в Ясную, мне выбраться невозможно. Жаль.
Теперь мне стыдно, что я написала Вам то письмо. Извините. Нельзя, наверное, вмешиваться в чужие экзамены…
Кстати, в Риме я сказала Сергею Сергеевичу, что, по-моему, самую серьезную мысль содержит — во всей нашей книжке — Ваш отклик. «Я не могу сказать, что это за мысль, — ответил Аверинцев. — Вероятно, я слишком глуп, чтобы понимать Володины писания в целом. Мне очень нравятся кусочки, которые я понимаю, но целого никогда не могу схватить». Я рассказала ему, что среди видов «побега от мира», о которых я переводила, есть и такой: ксенитея, добровольная жизнь в чужих стр анах. Он оживился: «Видимо, это и есть моя жизнь теперь, ксенитея». У кардинала Ратцингера он не сразу смог назваться (нужно было быстро представиться профессионально) — и потом объяснял, как его смущает этот вопрос. «Нужно начать с того, что была такая страна, Советский Союз, где некому было делать множество вещей. И это множество вещей я делал; вероятно, хуже, чем требуется… И назвать себя, как другие, — “специалист по агиографии” и т.п. не могу…» Этот момент разрыва с прошлым, ухода прошлого часто появляется в его словах. Я читала там по-итальянски его сочинение о христианской ценности брака, написанное не как ученый обзор богословия брака, но из личного опыта. […] Если бы я была сторонницей свободной любви, такая похвала браку меня бы только утвердила в этом прискорбном мнении. Книжка о богословии брака называется «Ребро Адама», «Costato d’Adamo», и состоит из двух частей: упомянутого сочинения С.С. и общего обзора темы иезуитского ученого. Между прочим, мне очень нравятся молодые стихи Ахматовой с таким живым опытом этого ребра:
…………………………………………….
из ребра твоего сотворенная,
как могу я тебя не любить?
И когда замираю, смиренная,
на груди твоей снега белей,
о как бьется оно, вдохновенное,
сердце, солнце отчизны моей!
Чье это сердце? А С.С. толкует «в плоть едину» совсем не так, как-то по-немецки… В Евангелии, в противопоставлении «отцу и матери», брак выглядит как предельная свобода, правда? Забвение свободы. «Сердце, солнце отчизны моей». За границами такой отчизны — ксенитея. Но у Ахматовой это писано не про законный брак (кажется, посвящено Недоброво).
Позавчера за мной заехала Анюта [20] и увезла в Поленово. Там был детский спектакль и все, как прежде и почти как в прошлом веке. Хорошо бы когда-нибудь привезти туда, на спектакль Ваших мальчиков. Там, бывает, участвуют и ровесники Олега. Кстати, большой спектакль назначен на 24–25 августа. Я уверена, они были бы рады Вашему приезду.
Пожалуйста, передайте мой нежный привет Ольге. И поцелуйте Рому, Володика и Олега.
Храни вас всех Господь.
Ваша
О.
Москва, 14.9.1996
Дорогая Ольга Александровна,
Ваше присутствие, разговоры с Вами, Ваши письма действуют на меня, как, наверное, настоящие лекарства на людей, которые их принимают (я медицинских никогда и никаких): бесцветно, безвидно и незаметно все исправляют эффективно и без эффектов. И еще я кажется догадываюсь: Вы любезны ко мне от боли, от усталости от человечества (посредственности), радуясь всякому, кто всерьез не любит посредственности и хочет вырваться из нее. — Ваш текст о Бродском на 6 страницах — это сжатая энциклопедия о нем или обстоятельный портрет; как обычно, Вам удалось написать компактно, сказав в малом собственно все. Это и есть, наверное, собственно письмо: в каком бы объеме не пиша, сказать целое? Тогда объемность, длина приобретают другую полноту: не суммы деталей, а орнамента, музыки, молитвы, архитектуры, скульптуры под открытым небом (как в Древней Греции). Вы не говорите почти ничего о технике Бродского, о его искусстве, не входите в разборы, и правильно делаете: явно нобелевский лауреат, как многие поэты, многое умеет. Вы говорите о первых решающих движениях воли, человеческого существа, принятия или отталкивания Целого (тут мне вспомнилось, что Ваше имя этимологически то же слово, что «целое»), добра-зла, зная, что этим все всегда определяется в жизни или в искусстве (жизнь, которая не стала искусством, зачем? она не самостоятельна, она должна ждать, когда о ней подумают и скажут). Мира с миром или просто мира у Бродского нет, есть зоркость, тоска, ум. Бог его как бы коснулся, не повернувшись к нему лицом, не успокоив. — И я невольно снова, как и вообще часто, думаю о том, что дает Вам право и обязывает так говорить, как в Швеции о Бродском: Ваше продолжающееся незаметное стояние в славе — говорю как «в слове», в слышании, и это противоположно телевизионной славе. Такая вот открытость и дает Вам дарить, и делает Вас подарком — как например для моей Ольги, которая только в Вас, но не в близких даже, видит внимание прямо к ней.