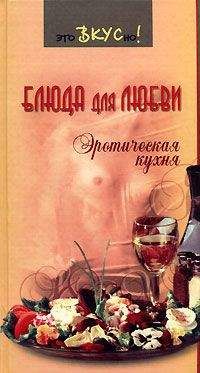Ольга Матич - Эротическая утопия: новое религиозное сознание и fin de siècle в России
Однако фантазия Блока идет дальше: он хочет показать обновление крови, поместив семя поэта в утробу женщины из народной, а не дворянской среды, причем даже не русской, а полячки[72]. Подразумевается, что воображаемый сын Блока избежит дурной наследственности, ибо в его венах будет течь здоровая кровь. Он станет новым человеком будущего; истории, как ее знал Блок, придет конец. Темы исторического возмездия и искупления, волновавшие многие умы в начале XX века, приобретают в предполагаемом финале поэмы мистическую и народную окраску. Народ, а не интеллигенция спасет Россию от вымирания.
Если воображаемый сын поэта и мог избежать вырождения, его лирический двойник такового не избежал. Только здоровое молоко крестьянки может спасти следующее поколение от заразы, которую Блок называет в поэме «вампирственным [девятнадцатым] веком». Получается, что сам Блок, в поэме дитя fin de siècle, должен был быть в ней вампиром, хотя в явном виде злодеем в «Возмездии» является отец, который внедряется в материнскую линию семьи лирического героя (Бекетовых). Он описывается как Демон Лермонтова и больной брат лорда Байрона, который хочет наполнить свой труп живой кровью («Как будто труп хотел налить / Живой, играющею кровью…») и зачинает своего сына в вампирическом совокуплении, метафорически представленном как изнасилование[73]:
(Смотри: так хищник силы копит:
Сейчас — больным крылом взмахнет,
На луг опустится бесшумно
И будет пить живую кровь
Уже от ужаса — безумной,
Дрожащей жертвы…)
— Вот — Любовь
Того вампирственного века,
Который превратил в калек
Достойных званья человека!
Будь трижды проклят, жалкий век![74]
В качестве иллюстрации к этому отрывку Блок изобразил на полях, по — видимому, своего отца в образе жалкого еврея, хотя именно он сосет кровь женщины — жертвы. Карандашная подпись: «подсудимый».
Маргиналии Блока в рукописи «Возмездия». Музей Александра Блока в Солнечногорске
Таким образом, секс и продолжение рода в поэзии Блока предстают как нечто порочное, кровавое в противоположность тем семейным отношениям в академической среде, в которые он вступил в ранней юности. Связи между «вампирственными» образами «Возмездия» и физическим вырождением становятся еще более явными, если рассмотреть их на фоне «мускульной», как ее называл Блок, структуры поэмы[75]. Возвращаясь в 1919 г., ко времени, когда писалось «Возмездие», Блок описывает развивающуюся структуру поэмы, прибегая к образам человеческой анатомии и сравнивая ее с развитием мускулов: «При систематическом ручном труде развиваются сначала мускулы на руках, так называемые — бицепсы, а потом уже — постепенно — более тонкая, более изысканная и более редкая сеть мускулов на груди и на спине под лопатками. Вот такое ритмическое и постепенное нарастание мускулов должно было составлять ритм всей поэмы. С этим связана и ее основная идея, и тема»[76].
Эта блоковская метафора становится противоядием от вырождения и вампиризма эпохи. Она перекликается и с понятием «мускулистого христианства», призывавшего в конце XIX века к регулярным физическим упражнениям как к способу сдерживать сексуальное влечение[77]. Кроме того, она отражает характерное для того времени представление о необходимости спорта и физической культуры. В литературном же аспекте эта метафора свидетельствует о запоздалом интересе Блока к Золя, предполагая связи между литературой и анатомией человека в духе натурализма.
Зимой 1910–1911 г. Блоку поставили диагноз «неврастения» или, может быть, то был приступ венерической болезни. (В «Возмездии» Блок называет нейрастению болезнью XIX века.) Ему прописали уколы спермина — средства, применявшегося в то время от импотенции и нервного истощения (Блок утверждал, что оно от плохой циркуляции крови)[78]. Его беспокоило собственное здоровье, как видно из письма к матери: зимой 1910 г. поэт пишет, что очень серьезно относится к физкультуре и систематическим упражнениям, в том числе к наращиванию мускулов, гимнастике, массажу и регулярному посещению турниров по французской борьбе. Также он плавает и катается на велосипеде. Как и в предисловии к «Возмездию», поэт проводит аналогию между своими атлетическими попытками физического обновления и творчеством. О поэзии он говорит в терминах родства и вырождения. Но вместо слова вырождение (которого он боится) Блок говорит о родстве поэзии и гимнастики, используя глагол родниться (отметим в обоих словах корень род, связанный с генеалогией и порождением). Чтобы обрести форму, поэзия должна обрести тело, здоровое тело, пишет Блок, таким образом подразумевая анатомические отношения между ними[79].
За тревогами Блока около 1910 г. стояла боязнь дурной крови. Поэт был восприимчив к культурному климату эпохи, предрекавшей конец прежнего порядка, с которым Блок ощущал родство; он был одним из ее представителей, ставших жертвой вырождения. Он потерял наследственную нравственную силу традиционной дворянской интеллигенции и не приобрел силы энергичного нового мира, что и привело к кровопусканию и кровопийству «страшного мира» Блока.
Премухинская идиллия в Шахматове
Если для Блока увлечение истоками, в первую очередь, означало родословную, то Белый в «Воспоминаниях о Блоке» воспринимает их прежде всего в широком культурном ключе, несмотря на свою «истеричную» мать и собственные депрессии и неврастению. В этих мемуарах Белый не рассматривает свою жизнь в контексте умирания дворянства как класса и культуры дворянских усадеб. По — видимому, он не был настолько захвачен вопросами вырождения и наследственного порока крови, хотя именно эти темы становятся основными в «Петербурге» (1916), вершине литературного творчества Белого. В романе Николай Аблеухов, классический неврастеник, прототипами которого были и Белый, и Блок, является последним в роду. Однако, выстраивая блоковский миф в «Воспоминаниях», Белый изображает себя разночинцем по контрасту с аристократическим имиджем Блока. Он описывает Шахматово как «дворянскую усадьбу», чуждую разночинцам (С. 85). Это различие в статусе — полностью вымысел Белого, творческий образ, поскольку оба брата — поэта были из профессорских дворянских семей.
Один из главных мифотворцев символизма, Белый интерпретирует жизнь блоковцев летом 1904 и 1905 года в соответствии с ницшеанским мифом вечного возвращения. Он изображает их не просто предтечами апокалипсиса, воплощающими в жизнь пророчество Соловьева, но и молодыми людьми, воспроизводящими жизни предыдущих поколений. Выбирая предшественников в XIX веке, Белый остановился на романтиках- идеалистах 1830–х и 1840–х гг. Блоковский культ в подобном прочтении был спроецирован на премухинскую идиллию, локусом которой являлось родовое имение Бакуниных в Тверской губернии. Она была создана в 1820–е гг. Александром Бакуниным, отцом будущего анархиста, как просвещенная, сентиментальная утопия и в 1820–е и 1830–е гг. стала «дворянским гнездом», питомником русского романтизма. Впоследствии судьбу ее определяли личности и идеология Михаила Бакунина и его молодого университетского друга Николая Станкевича, последователей немецкой романтической философии.
Участников премухинской и шахматовской идиллий объединяет ощущение того, что их личная жизнь, особенно любовь и дружба, напрямую связана с абстрактными идеями и историей. Обладавшие непомерными амбициями члены кружка Станкевича (в основном дети помещиков) чувствовали на себе печать того, что живут в стране, которая — по знаменитому выражению Чаадаева — не имеет истории и потому обречена подражать идеям, рожденным другими странами. Однако представление о России как исторической tabula rasa давало возможность этим самовлюбленным юношам считать свои жизни невероятно важными для будущего России и даже мира. Они воображали, что не ограничены ни прошлым, ни традициями. Вдохновленные этим ощущением, они приписывали историческую значимость своей личной жизни, придавая «грандиозный, высший и общий смысл даже интимнейшим, казалось бы, переживаниям»[80]. Члены кружка Станкевича, как спустя три четверти века блоковцы и как Александр Герцен и Николай Огарев, считали, что их реальные дружбы, романы и браки воплощают философские идеи и обладают потенциалом преображения жизни. Их сестры и любимые женщины воспринимались как посредники в проектах преображения. Эрос в их представлении являлся катализатором истории: «Наша любовь, Мария, — пишет Огарев своей невесте в 1836 г., — заключает в себе зерно освобождения человечества. [Она] будет пересказываться из рода в род, и все грядущие поколения будут хранить нашу память, как святыню»[81].