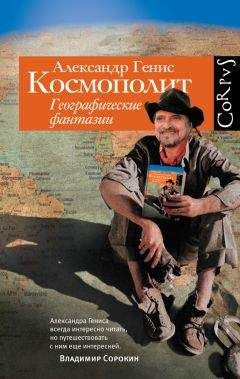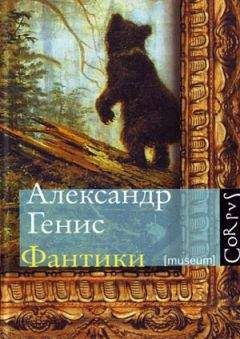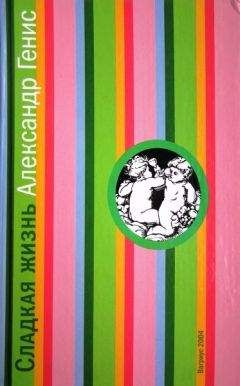Александр Генис - ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ
Воспитание читательской восприимчивости сродни медитативной практике, которой обучают в буддийских монастырях. Не случайно три величайших поэта Китая:
Ли Бо, Ду Фу и Ван Вэй — принадлежат той же танской эпохе (VII-VIII вв.), когда в стране возникла секта китайского дзэн-буддизма — Чань.
Одна дзэнская притча рассказывает об ученике, который, придя к наставнику, оставил у входа зонтик и башмаки. Учитель спросил его, слева или справа от башмаков тот поставил зонтик. Ученик не смог вспомнить и усты-
185
дился: утратив бдительность, он упустил мгновение [66].
Воспитывая в читателе постоянную напряженность и открытость чувств, поэзия должна до отказа наполнять каждую минуту нашей жизни. Китайские стихи — искусство не остановленного, а продленного мгновения.
Стремясь к такому эффекту, китайцы создали поэзию мнемонических знаков, способных зафиксировать невербальный чувственный опыт. Автор не описывает то, что видит, а выделяет детали пейзажа, звуки и запахи, пытаясь вызвать у читателя те же невыразимые словами переживания, которые испытал он сам. Это общение словами без слов.
Лао-цзы говорил: “Ловушка нужна, чтобы поймать зайца: когда заяц пойман, про ловушку забывают. Слова нужны — чтобы поймать мысль: когда мысль поймана, про слова забывают”.
Китайская поэзия — это словесное искусство, преодолевающее слова.
Метафизика масскульта
Сартр говорил, что у каждого в душе — дыра размером с Бога. Правда, в XX веке мы впервые решили, что сможем обойтись без Бога, но еще не успело завершиться столетие, как выяснилось, насколько мы ошибались. Сегодня религиозная жизнь так бурна и яростна, что многие пророчат XXI веку бесконечные религиозные войны.
Особенно важно, что на смену традиционным, устоявшимся институализированным конфессиям приходит целы и букет новых вер. Об этой варварски пестрой теологической эклектике американский, точнее, калифорнийский (там будущее начинается раньше) журналист Майкл Вентура пишет: “Нынешняя раскаленная религиозная атмос-
186
фера напоминает ту, которая царила в первом столетии до рождества Христова. Называйте этот век Новым или как вам угодно, но грядущая вера соединит восточную философию с теорией относительности, кибернетику с суфизмом, францисканский мистицизм с языческим анимизмом, астрономию с эллинским политеизмом, биологию и племенные ритуалы с юнгианской и гештальтпсихологией* в одно всемирное движение, целью которого будет утверждение новой мировой религии” [67].
Такая религия может сложиться в русле органической парадигмы, сплавляющей мистику с наукой. Но чтобы пестрый конгломерат вер вырос в более или менее стройное религиозное мировоззрение, необходим перевод,ибо язык и науки и мистики слишком темен и эзотеричен — он доступен лишь посвященным. Чтобы войти в массовое сознание, новая парадигма должна быть переведена на язык массового искусства. Только эта — третья после церкви и науки — мировая сила истории способна совершить переориентацию возникающей сейчас постиндустриальной культуры.
Массовая культура всегда пестовала свою, специфическую религиозность, которая лучше вписывается в восточную, чем западную, традицию.
Эта та религия, которая, как пишет Судзуки, “позволяет избежать банальности мирской жизни”. Та религия, которая, как говорят тибетские монахи, дает шанс прожить обычную жизнь необычным образом. Та религия, о приходе которой рассуждает автор популярной на Западе “Истории Бога”: “Только Бог мистиков созвучен атеистическому настрою нашего секулярного общества с его недоверием ко всем сомнительным образам Абсолюта. Вместо того чтобы видеть в Боге объективный факт, который может быть подтвержден наукой, мистики ищут
____________________
* Одна из школ современной психологии, считающая технические структуры, целостные образования (гештальты) первичным и основным элементом психики.
187
Бога в таинстве субъективного переживания. Путь к такому Богу лежит через воображение — его можно считать произведением искусства, схожим с другими великими художественными символами, передающими невыразимую тайну, красоту и ценность жизни” [68].
Такой мистический Бог особенно близок массовому искусству, потому что оно изначально, по самой своей природе близко к первобытному пралогическому миросозерцанию. Популярное искусство никогда далеко не отходило от общего архаического источника нашей культуры. Оно было резервуаром мифологических образов и представлений. Это своего рода отстойник, куда стекали иррациональные отходы цивилизации, по мере того как она становилась все более рациональной.
Там, в нижнем, подвальном этаже культуры, скопились ненужные атрибуты мистического мировоззрения — суеверия и приметы, обряды и ритуалы, слухи и легенды. Отсюда массовое искусство черпает архетипические мифологические образы, которыми оно щедро засеваетсвои угодья — комиксы, кинобоевики, телесериалы, бульварную прессу, витрины, гороскопы, видеоклипы, рекламу, моды.
Богатый набор символов перешел по наследству от церкви массовой культуре, которая пятится от протестантского иконоборчества к языческому идолопоклонству. По мере того как религия, очищаясь от суеверий, сублимировалась в интеллектуально-нравственные формы, останки древней веры скапливались в менее рациональных, но более грубых, более чувственных, более живых сферах общественного бытия.
Жорж Батай писал: “Мы привыкли отождествлять религию с законом, мы привыкли отождествлять ее с разумом. Но если придерживаться того, что лежит в основе всей совокупности религии, мы должны отвергнуть этот принцип. Религия требует по меньшей мере чрезмерности. Она требует праздника, вершиной которого является экстаз” [69].
188
Если не праздником, то уж чрезмерностью массовое искусство всегда дарит своих почитателей. Его неоспоримое могущество, очевидная витальность и бесспорная универсальность подсказывают, что именно здесь происходит таинственное брожение, вызревание новой культуры. Верно оценить судьбоносную важность этих процессов нам мешает их — опять-таки чрезмерная — наглядность:
труднее всего заметить то, что бросается в глаза.
Механизм такой аберрации зрения иллюстрирует история русских вывесок, этого массового искусства дореволюционной России. Неграмотная страна нуждалась в огромном количестве вывесок. Их по строгому канону писали мастера из особых, подобных иконописным, артелей. Недошедшие до нас вывески — они стали жертвой революционной разрухи — придавали русским городам самобытный, живописный и “аппетитный” облик, напоминающий о фламандских натюрмортах. Как ни странно, это буквально бросающееся в глаза искусство полностью игнорировали все ведущие русские художники XIX века. Передвижники любили народ, но не его архаическое искусство. Открыли живописную вывеску лишь художники-футуристы [70].
Для этого потребовалась не просто смена вкусов, а кардинальный пересмотр самих границ эстетики, что и случилось в начале XX века, когда бастионы западного искусства начало подмывать мощное архаическое течение. У “дикарей” учились многие художники той поры.
В середине 80-х Нью-Йоркский музей современного искусства продемонстрировал связь авангарда с архаикой особой выставкой. На ней прославленные картины, такие, как полотно Пикассо “Авиньонские девушки”, которым принято открывать историю живописи XX века, экспонировались вместе с образцами первобытного искусства, вдохновившими художников. Сходство — иногда очевидное до двусмысленности — оказалось бесспорным.
189
Подобную экспозицию устроил афинский музеи кикладской скульптуры, поместивший статуэтки трехтысячелетней давности рядом с работами Бранкузи, Генри Мура и Модильяни.
Пример непонятой русской вывески поможет увидеть в массовой культуре острую духовную проблему. Ведь раскол искусства на две ветви — одно из самых странных и многозначительных событий нашего времени.
Противоречие между высокой и низкой культурой можно свести к конфликту психологии с метафизикой. Психология, как писал дерзкий реформатор театра Антонен Арто, — это “стремление уменьшить неизвестное до известного”. Между тем подлинная задача искусства — оставить все как есть: не раскрывать тайну, а благоговейно к ней прикоснуться. Искусство должно обращать быль в сказку, переплавлять физику в метафизику, оно, по выражению Пауля Клее, не отражает видимое, а создает его. Арто стремился развернуть искусство от рационального к иррациональному. Он мечтал о зрелище, в котором “действие сожрало бы психологию”.